Только чур обсуждать без срачей и троллинга.
просто коротко и по теме выскажите свои мнения.
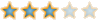
 Об Осипове
Об Осипове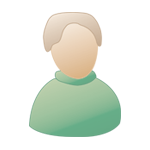
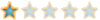
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове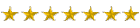
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове+10000 - кто даст больше?АЛЕКСЕЙ пишет:+100
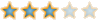
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове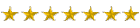
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове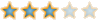
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеНеоднозначно. Его модернистские взгляды поддерживаю, т.к. само по себе Христианство - модернистское. Он -патриот России, но умеренный, без фанатизма.Русский пишет:Как вы относитесь к Осипову и его богословским трудам?
Только чур обсуждать без срачей и троллинга.
просто коротко и по теме выскажите свои мнения.
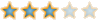
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеРазве люди не могут творить зло осознанно? Разве зло-это не результат неправильного использования свободной воли?Wally пишет:
Так же я не согласен с его протестом против Сократовского: никто не зол по доброй воле, люди злы лишь по неведению!
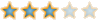
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеРодной вы мой! Да нет никакой истины в последней инстанции. Только Христос есть Истина.Wally пишет:
Осипова надо слушать как мудреца, не не принимать его как достоверную истину последней инстанции.
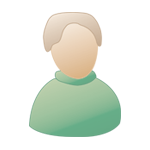
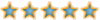
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове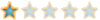
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове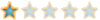
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповесказал Царь Соломон -а МУДРОСТЬ вашу я сделаю глупостью -а сколько их этих мудрецовWally пишет:
Неоднозначно. Его модернистские взгляды поддерживаю, т.к. само по себе Христианство - модернистское. Он -патриот России, но умеренный, без фанатизма.
Имхо : его минусы -это критика из-за недопонимания старца Порфирия Кавсокаливита. Прочитав Цветослов Советов старца Порфирия пришел к выводу, что А.И.Осипов в корне был не прав. Старец Порфирий все свое учение централизирует вокруг любви ко Христу. И когда монахи придя к нему спросили про технику Иисуовой молитвы, то он ответил, что просто любит Христа. Разве не прав он был ? Какая техника заменит любобь ко Христу ?
Так же я не согласен с его протестом против Сократовского: никто не зол по доброй воле, люди злы лишь по неведению!
Сократ был прав. Ибо только от кто знает о своей участи, не станет творить зла.
Осипова надо слушать как мудреца, не не принимать его как достоверную истину последней инстанции.
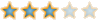
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеНу вот и хорошо.Комаров пишет:
Осипова надо слушать как мудреца - согласен!
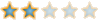
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове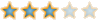
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповепротоиерей Вячеслав пишет:
сказал Царь Соломон -а МУДРОСТЬ вашу я сделаю глупостью -а сколько их этих мудрецов
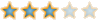
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове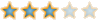
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеKseniya пишет:Отношусь к лекциям господина Осипова с осторожностью.
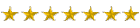
 Re: Об Осипове
Re: Об Осипове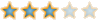
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеВ одной из лекций Осипов торжествует о посмертной участи...кратко если...то в ад никто не попадёт. Потому, как Бог сама ЛЮБОВЬ! Если здесь будут на этот пост сопротивления...я постараюсь найти и выложить. В ю-тубе, кстати есть. Просто какое -то преклонение пред профессором. Говорит захватывающе. Не спорю. Пардон, но, Григорию Богослову я доверяюсь полностью. Кураев..познаний много..но..Очень много у меня НО!Комаров пишет:
Ксения, а это почему? Что тебя там настораживает?
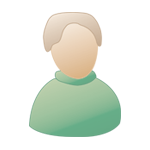
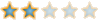
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеЦитата: Святитель Григорий Богослов Слово О богословииnoname пишет:Осипов и Кураев - два моих любимых богослова.

 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеВы думаете иначе? Победил Христос ад или нет?Kseniya пишет: Осипов торжествует о посмертной участи...кратко если...то в ад никто не попадёт.
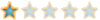
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповене я же сказал -стремитесь к премудрости -вся мудрость там -и больше ни какой мудрости не надоКомаров пишет:
То есть никакой мудрости нет. Великолепно. И кого же нам слушать? ......?
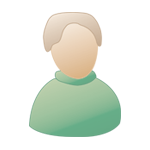
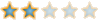
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеКто оне не знаю, но не богословы точно. Популяризаторы без духовного руководства, может быть. Но ознакомив себя с их выступлениями, статьями или книгами, непременно надо вернуться к святоотеческим текстам действительно великих. Чтобы что-то оценить, должно подождать. Время покажет.Kseniya пишет:Отношусь к лекциям господина Осипова с осторожностью.
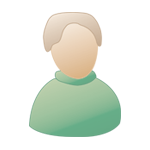
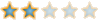
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеЯ тоже думаю иначе.А сатана уже закован на 1000 лет?miha61 пишет:Вы думаете иначе? Победил Христос ад или нет?
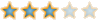
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповеmiha61 пишет:Вы думаете иначе? Победил Христос ад или нет?
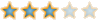
 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеАбсолютно с Вами согласна. Вот, даже прочла Григория Богослова...так и на душе спокойнее..понятнее.Tverskoy пишет:
Кто оне не знаю, но не богословы точно. Популяризаторы без духовного руководства, может быть. Но ознакомив себя с их выступлениями, статьями или книгами, непременно надо вернуться к святоотеческим текстам действительно великих. Чтобы что-то оценить, должно подождать. Время покажет.

 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеА я уверен, Господь победитель смерти и ада.Tverskoy пишет:Я тоже думаю иначе.А сатана уже закован на 1000 лет?
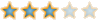
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповеmiha61 пишет:А я уверен, Господь победитель смерти и ада.
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (Ос. 13, 14)

 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеНикаких "но"Христос победил ад!! Но...

 Re: Об Осипове
Re: Об ОсиповеНет Ксения, в аду побывать придется. Это последнее средство для исцеления грешника, для его раскаяния, но побывать придется.Kseniya пишет:
Абсолютно верно! Никто и не спорит. А эт ничего, что брошу ка я пост...пойду гулять, блудить и веселиться. Всё равно в ад не попаду..и нет никаких вечных мучений.
Вы так думаете??? Да?

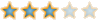
 Re: Об Осипове
Re: Об Осиповеmiha61 пишет:
Никаких "но"
"Ад! где твоя победа?"
Где?