Последние темы
» БЕСЕДКА (ОБО ВСЕМ)
автор Admin 02.10.23 23:12
» Рдейский монастырь, полнометражный фильм
автор termegon 16.06.23 0:39
» noname уходит
автор Admin 15.05.23 20:41
» Что является смыслом вашей жизни?
автор Admin 15.05.23 20:39
» Холдер, отзовись! (Перекличка выживших форумчан)
автор Admin 15.05.23 20:34
» Загадки в сказках.
автор Георгий Вигант 27.03.23 11:19
» Стихи нонейма
автор Георгий Вигант 25.03.23 7:11
» Считается ли грехом знакомство через интернет?
автор Георгий Вигант 24.03.23 10:09
» Русский Донбасс! Россия, вперёд!!!!
автор Монтгомери 28.01.23 19:52
» Прозрение. Украина
автор Монтгомери 27.11.22 14:23
» БЕСОГОН
автор Монтгомери 13.11.22 13:47
» РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
автор Монтгомери 12.11.22 14:47
» Запад и нравственность
автор Монтгомери 10.11.22 18:54
» Осенние красоты Рдейского монастыря, видео
автор Монтгомери 08.11.22 6:20
» Вяжищский монастырь, фильм в 2х частях.
автор termegon 02.08.22 17:43
» Рдейский монастырь, фильм в шести частях.
автор termegon 21.07.22 14:59
автор Admin 02.10.23 23:12
» Рдейский монастырь, полнометражный фильм
автор termegon 16.06.23 0:39
» noname уходит
автор Admin 15.05.23 20:41
» Что является смыслом вашей жизни?
автор Admin 15.05.23 20:39
» Холдер, отзовись! (Перекличка выживших форумчан)
автор Admin 15.05.23 20:34
» Загадки в сказках.
автор Георгий Вигант 27.03.23 11:19
» Стихи нонейма
автор Георгий Вигант 25.03.23 7:11
» Считается ли грехом знакомство через интернет?
автор Георгий Вигант 24.03.23 10:09
» Русский Донбасс! Россия, вперёд!!!!
автор Монтгомери 28.01.23 19:52
» Прозрение. Украина
автор Монтгомери 27.11.22 14:23
» БЕСОГОН
автор Монтгомери 13.11.22 13:47
» РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
автор Монтгомери 12.11.22 14:47
» Запад и нравственность
автор Монтгомери 10.11.22 18:54
» Осенние красоты Рдейского монастыря, видео
автор Монтгомери 08.11.22 6:20
» Вяжищский монастырь, фильм в 2х частях.
автор termegon 02.08.22 17:43
» Рдейский монастырь, фильм в шести частях.
автор termegon 21.07.22 14:59
Православный календарь
Свт. Феофан Затворник
Поиск
Помощь проекту
Стиль форума
Доп Кнопки
Ссылки на Библию
WM
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
Размышления нонейма о вечности, мистике, Боге, жизни...

noname- Почетный форумчанин
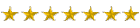
- Сообщения : 16847
Дата регистрации : 2011-02-01
Возраст : 46
Откуда : Оренбург
Вероисповедание : православный
Вера - дар Божий. Но я этот дар выпросил, находясь в безысходных условиях. В 2006 году я заболел неизвестной болезнью - болело всё тело, я не мог спать. Врачи не смогли поставить диагноз, не верили мне, что у меня всё болит. Я в отчаянии обратился к Богу через икону "Избавительница" (по интернету нашёл) и получил исцеление. Так я обрёл веру. Стал посещать православный форум - форум "Православной газеты", много читал по Православию. Я стал обретать знания о вере. В храм не ходил, я там никого не знал, мои родители и близкие люди нецерковные люди. В 2008 году в Питере у меня произошла Встреча с Богом - в душе. Мы с Богом долгое время общались. Бог давал мне новые знания, переделал моё сознание, давал мне образы. В апреле 2009 года я заболел на религиозной почве - после просмотра фильма "Страсти Христовы" Гибсона. Заболел шизофренией, неизлечимой психической болезнью. Пью таблетки. В 2011 (с июля) по 2012 (по февраль) я был воцерковленным православным, только потом ушёл - не понравилось, я чувствовал одиночество в храме, ненужность. Да и знакомых церковных не было, тяготили посты, Исповедь, богослужения по воскресеньям. Это не моё. У меня Бог в душе, я помню мистическое богообщение в Питере летом 2008 года. Такие дела. Приглашаю к диалогу.
Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?
Разве только вы не то, чем должны быть.
(2Кор. 13, 5).
Вот что говорит в одном из своих Писем о христианской жизни(4) известный подвижник и ученый доктор богословия епископ Феофан.
«Всякому должно испытать и несомненно увериться, истинна ли та вера, которой он держится, и если она окажется не истинною, отыскать, где та единая, истинная, которая истинно ведет к истинному Богу и дарует, несомненно, вечное спасение. Это так обязательно и понудительно, как исхищать себя из огня. Господь …не переставал свидетельствовать о Себе (Деян. 15, 17), а равно, и о единой своей истинной вере; но когда Он попустил, чтоб близ нея на сей земле существовали другие веры и, как бы, вступали с нею в соперничество, то тем самым, на всех наложил обязательство не без смысла держаться веры Его, а по несокрушимым основаниям, ради которых с полным убеждением, отвергается все прочее. Этим испытанием воздается честь вере и удерживается истинное достоинство человека, лица разумного, сознательного, совестного. Вера наша в нашу веру, т. е., убеждение в истине православного христианского исповедания должна быть разумная. Посему Господь, чтобы расположить к вере в Себя и Свое учение, говорил: исследуйте Писания (Ин. 5, 39), убеждал к тому проповедью Иоанна Крестителя и своими чудесами. Апостолы в проповеди тоже всех убеждали и только одним убеждением приучали к вере, а не насилием. Сама твердость исповедания зависит от сего убеждения, а далее и вся жизнь в духе своей веры. На это указывают бесчисленные опыты, от которых видно, как сильно иные возбуждаются к сообразной с верою деятельности, с минуты сознания её истинности единственной, и напротив, как многие спят в беспечности от того, что не привели в ясность сего сознания. Сколько оснований к тому, чтобы испытать и увериться, какая вера есть вера истинная!
Как же увериться и каким путем испытать? К сему два способа: один внешний, научный, а другой внутренний, путь веры. Первый предлагается, обыкновенно, в систематическом изложении Богословия. Он действителен, и для ученых существенно необходим; но, очевидно, не всеобщ, ибо в основании своем содержит знания, не для всех доступные…. Нельзя (кроме того) не видеть, что сей путь очень, очень долог и труден, и, что особенно замечательно, помещаясь в голове, оставляет сердце самому себе, своему своенравию и свободе (т. е. тому, что главным образом разъединяет человека с Богом. Ср. св. Исаака: Сирина: «Вера по науке не освобождает человека от гордости и сомнения»). Путь веры искреннее, внутреннее, живее, многоплоднее и общедоступнее. Это молитва к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю Свою нам в наше спасение, с желанием, чтоб она была понята и выполнена. Теперь мудрованиями людскими она скрыта, или запутана до того, что тот или другой не имеет достаточно сил найти исход из сего лабиринта. Когда, в чувстве сей кровной нужды, с воплем, стенанием, болезнью сердечною, обратится кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтоб вера Его была действенною, может ли быть, чтобы Он не дал такому решительного указания к убеждению в истине её?… Примеры убеждения в вере сим путем почти повсюдны. Корнилий сотник испросил себе веру… Множество было таких, кои приходили к пустынникам вопрошать о вере, а они, вместо всех доводов, заставляли их молиться, и Бог открывал им истину, например святой великомученице Екатерине. В смутные времена ересей, Бог воздвигал людей с отличной святостью, облекал их силою чудодейственною и ставил на виду всех, как свечи на подсвечнике, да светят всем; так как они были сосуды веры и силы Божией, то и служили для всех сомневающихся решительными указателями истины. Все ожидали или желали знать, как исповедует тот и тот святой муж, и держались его исповедания…. Один говорил о себе: когда я смотрю на нетленные останки, источающие целебную Божественную силу, и помышляю, что дух, освятивший сие тело, исповедал именно ту веру, которую я содержу, то у меня исчезает всякое сомнение, которое иногда навевает враг истины, и я не могу не радоваться тому, что Богу угодно было дать нам такой решительный и вместе такой доступный способ убеждения в истине святой веры…. Так вот где успокоительная проповедь об истине веры!… Но блаженнее из всех тот, кто, вместе с Иеронимом Греческим, может сказать: «истинна вера, исповедуемая мною, ибо ею я сподобился принять Божественную некоторую силу, действующую во мне ощутительно. И язычники имеют писания и храмы, и жертвы, и учителей, и книги, и отчасти Боговедение, и некоторые добрые дела, и праздники, и перемену одежд, и молитвы, и всенощные бдения, и священников, и много другого; но сей сокровенной в сердце христианина благодати и действия Св. Духа никто в целом свете не получает. а получают верою только одни правильно крестившиеся в Отца, Сына и Святого Духа». Так вот прямейший путь к открытию истинной веры именно: вера же, молитва, непрерывность чудодейственности в церкви, и особенно, внутренняя сила, доставляемая в вере.
Вот этот-то последний путь познания Истины Божией, отмеченный преосвященным Феофаном, путь внутреннего опыта и забыт нами, настолько забыт, что при указании на него многие, почитающиеся христианами, приходят в недоумение и так высказываются относительно этого пути, что, в свою очередь, приводят в недоумение говорящего. Да, и в самом деле, не мнение ли это одного или немногих лиц,— все эти ссылки на какие то неясные, таинственные переживания души, на эти ощущения, столь субъективные, что их и понять не может громадное большинство немудрствующих лукаво христиан? Не придаток ли это к христианству, насколько личный, настолько и не общеобязательный? Не есть ли это лишь для полноты изложения вставленное, не имеющее особенной цены, маленькое звено аргументации? Пусть умножится несколько блаженство человека, который ощутит в себе то, о чем свидетельствует блж. Иероним…. Но разве это уж так важно для христианина? Не довольно ли правого исповедания и тех добрых дел, на которые человек наталкивается на каждом шагу жизни? Даже философствующая и богословствующая мысль должна, кажется, быть удовлетворенной этим дружным сочетанием метафизики и морали, догмы и нравственности… Да! но нет ли в этом спасительном ковчеге отверстия, небезопасного для плывущих в царствие Божие?
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?
Разве только вы не то, чем должны быть.
(2Кор. 13, 5).
Вот что говорит в одном из своих Писем о христианской жизни(4) известный подвижник и ученый доктор богословия епископ Феофан.
«Всякому должно испытать и несомненно увериться, истинна ли та вера, которой он держится, и если она окажется не истинною, отыскать, где та единая, истинная, которая истинно ведет к истинному Богу и дарует, несомненно, вечное спасение. Это так обязательно и понудительно, как исхищать себя из огня. Господь …не переставал свидетельствовать о Себе (Деян. 15, 17), а равно, и о единой своей истинной вере; но когда Он попустил, чтоб близ нея на сей земле существовали другие веры и, как бы, вступали с нею в соперничество, то тем самым, на всех наложил обязательство не без смысла держаться веры Его, а по несокрушимым основаниям, ради которых с полным убеждением, отвергается все прочее. Этим испытанием воздается честь вере и удерживается истинное достоинство человека, лица разумного, сознательного, совестного. Вера наша в нашу веру, т. е., убеждение в истине православного христианского исповедания должна быть разумная. Посему Господь, чтобы расположить к вере в Себя и Свое учение, говорил: исследуйте Писания (Ин. 5, 39), убеждал к тому проповедью Иоанна Крестителя и своими чудесами. Апостолы в проповеди тоже всех убеждали и только одним убеждением приучали к вере, а не насилием. Сама твердость исповедания зависит от сего убеждения, а далее и вся жизнь в духе своей веры. На это указывают бесчисленные опыты, от которых видно, как сильно иные возбуждаются к сообразной с верою деятельности, с минуты сознания её истинности единственной, и напротив, как многие спят в беспечности от того, что не привели в ясность сего сознания. Сколько оснований к тому, чтобы испытать и увериться, какая вера есть вера истинная!
Как же увериться и каким путем испытать? К сему два способа: один внешний, научный, а другой внутренний, путь веры. Первый предлагается, обыкновенно, в систематическом изложении Богословия. Он действителен, и для ученых существенно необходим; но, очевидно, не всеобщ, ибо в основании своем содержит знания, не для всех доступные…. Нельзя (кроме того) не видеть, что сей путь очень, очень долог и труден, и, что особенно замечательно, помещаясь в голове, оставляет сердце самому себе, своему своенравию и свободе (т. е. тому, что главным образом разъединяет человека с Богом. Ср. св. Исаака: Сирина: «Вера по науке не освобождает человека от гордости и сомнения»). Путь веры искреннее, внутреннее, живее, многоплоднее и общедоступнее. Это молитва к единому истинному Богу о вразумлении. Есть Бог истинный. Он сказал волю Свою нам в наше спасение, с желанием, чтоб она была понята и выполнена. Теперь мудрованиями людскими она скрыта, или запутана до того, что тот или другой не имеет достаточно сил найти исход из сего лабиринта. Когда, в чувстве сей кровной нужды, с воплем, стенанием, болезнью сердечною, обратится кто к Богу, истинному Отцу всех человеков, Богу, желающему, чтоб вера Его была действенною, может ли быть, чтобы Он не дал такому решительного указания к убеждению в истине её?… Примеры убеждения в вере сим путем почти повсюдны. Корнилий сотник испросил себе веру… Множество было таких, кои приходили к пустынникам вопрошать о вере, а они, вместо всех доводов, заставляли их молиться, и Бог открывал им истину, например святой великомученице Екатерине. В смутные времена ересей, Бог воздвигал людей с отличной святостью, облекал их силою чудодейственною и ставил на виду всех, как свечи на подсвечнике, да светят всем; так как они были сосуды веры и силы Божией, то и служили для всех сомневающихся решительными указателями истины. Все ожидали или желали знать, как исповедует тот и тот святой муж, и держались его исповедания…. Один говорил о себе: когда я смотрю на нетленные останки, источающие целебную Божественную силу, и помышляю, что дух, освятивший сие тело, исповедал именно ту веру, которую я содержу, то у меня исчезает всякое сомнение, которое иногда навевает враг истины, и я не могу не радоваться тому, что Богу угодно было дать нам такой решительный и вместе такой доступный способ убеждения в истине святой веры…. Так вот где успокоительная проповедь об истине веры!… Но блаженнее из всех тот, кто, вместе с Иеронимом Греческим, может сказать: «истинна вера, исповедуемая мною, ибо ею я сподобился принять Божественную некоторую силу, действующую во мне ощутительно. И язычники имеют писания и храмы, и жертвы, и учителей, и книги, и отчасти Боговедение, и некоторые добрые дела, и праздники, и перемену одежд, и молитвы, и всенощные бдения, и священников, и много другого; но сей сокровенной в сердце христианина благодати и действия Св. Духа никто в целом свете не получает. а получают верою только одни правильно крестившиеся в Отца, Сына и Святого Духа». Так вот прямейший путь к открытию истинной веры именно: вера же, молитва, непрерывность чудодейственности в церкви, и особенно, внутренняя сила, доставляемая в вере.
Вот этот-то последний путь познания Истины Божией, отмеченный преосвященным Феофаном, путь внутреннего опыта и забыт нами, настолько забыт, что при указании на него многие, почитающиеся христианами, приходят в недоумение и так высказываются относительно этого пути, что, в свою очередь, приводят в недоумение говорящего. Да, и в самом деле, не мнение ли это одного или немногих лиц,— все эти ссылки на какие то неясные, таинственные переживания души, на эти ощущения, столь субъективные, что их и понять не может громадное большинство немудрствующих лукаво христиан? Не придаток ли это к христианству, насколько личный, настолько и не общеобязательный? Не есть ли это лишь для полноты изложения вставленное, не имеющее особенной цены, маленькое звено аргументации? Пусть умножится несколько блаженство человека, который ощутит в себе то, о чем свидетельствует блж. Иероним…. Но разве это уж так важно для христианина? Не довольно ли правого исповедания и тех добрых дел, на которые человек наталкивается на каждом шагу жизни? Даже философствующая и богословствующая мысль должна, кажется, быть удовлетворенной этим дружным сочетанием метафизики и морали, догмы и нравственности… Да! но нет ли в этом спасительном ковчеге отверстия, небезопасного для плывущих в царствие Божие?
А как?Ksertoo пишет:
А что вы так?
Заглянем в писания людей, отмеченных печатью святости.
«Одно дело,— говорит Климент Александрийский,— что приобретено упражнением, и учением, и иное, что воспринято через откровение верою. Только последний путь ведет к познанию божественной Истины, и она очень близка от нас, даже в наших жилищах, как свидетельствует боговидец Моисей».
«Научает нас,— утверждает блж. Августин,— внутренний Учитель, научает Христос, божественное вдохновение; где нет этого вдохновения и внутреннего просвещения, там тщетно действие слов извне».
И если Духа Божия нет в сердце слушателя,— подтверждает также Григорий Богослов,— то напрасны рассуждения учителя, ибо, если Тот, Кто научает, не находится внутри, то язык учителя, который вне, трудится понапрасну.
«Потому что,— заключает блж. Иероним,— закон духовен, и нужно откровение, чтобы понимать его».
«Кто слышит только внешний и плотской голос,— поучает св. Лев Великий,— тот слышит тварь; Бог же есть Дух, и Его можно слышать только чрез Духа, так и Иисуса никто не может назвать Господом, как только Духом Святым».
«Лучшее и вернейшее познание Бога не то, которое выработано усилиями рассудка и выпотением мозга, но то, которое возгорается от небесного огня в сердцах наших и вносит в душу божественный свет, свет,— как говорит Ориген,— более ясный и убедительный, чем все рассудочные доказательства. В этом то и состоит познание Истины, как она пребывает во Христе Иисусе,— в том сладостном, кротком, смиренном и любящем духе Иисуса, который, как утреннее солнце, сияет на злых и благих».
«Искать же боговедения лишь в книгах и писаниях значит,— по словам блж. Августина,— искать живого между мертвыми. Intra te queer Deum! Он лучше всего распознается, так сказать, духовным осязанием. Мы должны стремиться видеть Его своими глазами, слышать своими ушами, и наши руки должны осязать Слово жизни. Ведь душа наша, как и тело, имеет свое чувство: вкусите и видите, как благ Господь!»
Достаточно и сих свидетельств, утверждающих то положение, что божественное, внутреннее откровение Духа есть основной источник Богопознания.
Приведу теперь свидетельства, не только утверждающие и раскрывающие только что высказанное мною положение, но с особенной силой настаивающие на необходимости и безусловной общеобязательности того пути Богопознания, который, повторяю, оставлен и забыт нами на великое горе нам, на великое,— ибо в забвении пути сего кроется причина главнейших недугов наших и нашей неспособности исцелить их.
Начну со св. Исаака Сирина, этого величайшего, по мнению Киреевского, философа-христианина.
«Пока душа не придет в упокоение верою в Бога, приятием в себя силы ея ощущения, дотоле не уврачует немощи чувств, не возможет с силою попрать видимого вещества, которое служить преградою внутреннему».
«Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом, приять в себя ощущение этого услаждения, не порабощенного чувствам? Послужи милостыне».
«Кто целомудрен, смиренномудр, гнушается вольностью в словах, и изгнал из сердца раздражительность, тот (уверен я в этом), как скоро станет на молитву, видит в душе, своей свет Св. Духа».
Различая три степени ведения св. Исаак пишет:
«Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу.
Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры.
Третья же есть упокоение от делания (что есть образ будущего) в едином упражнении ума, наслаждающегося тайнами будущего… Все святые, сподобившиеся обрести житие сие (а это есть восторжение к Богу) по силе веры, пребывают в услаждении оным превышеестественным житием. Веру же разумеем не ту, какую человек имеет в рассуждении различия достопокланяемых Божественных Ипостасей, все превосходящего и особенного естества в самом Божестве, чудного домостроительства в воплощении восприятием нашего естества (хотя и сия вера крайне высока), но веру, воссиявающую в душе, от света благодати, свидетельством ума подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого самомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое и божественное богатство, сокровенное для очей сынов плоти, и открываемое Духом питающимся с трапезы Христовой, в поучении законам Христовым, как сказал Господь: если заповеди Мои соблюдете, пошлю вам Утешителя, Духа Истины, Его же мир не может принять и Он вас научит всякой истине (Ин. 16, 17, 26). Он указывает человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время,… которая познаётся святыми (более) в опытном приобщении к ней».
«Утверждение веры в Бога не то, что здравое исповедание, хотя оно и матерь веры, напротив того, душа видит истину Божию по силе жития».
«Несомненность веры в людях высоких душою открывается по мере того, как нравы их внимательны к житию по заповедям Господним».
«Что такое ведение?— вопрошает св. Исаак. И дает ответ: » Ощущение бессмертной жизни» .— »Что такое бессмертная жизнь?» — »Ощущение в Боге»».
«Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной!»— восклицает святой.
«Истина есть ощущение по Богу, какое только вкушает в себе человек ощущением чувств духовного ума».
«Проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры. И если ощутишь в душе своей наслаждение сие, то нетрудно сказать мне при этом, что ничем уже не отвратить тебя от Христа… Об этом молись неленостно, сего испрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь».
«Когда Бог усмотрит в тебе сию волю, что со всею чистотою мыслей доверился ты самому Богу более, нежели себе самому….тогда вселится в тебя оная неведомая сила, и ощутительно почувствуешь, что с тобою несомненно сила, та сила, которую ощутив в себе, многие идут в огонь, и не боятся, и ходя по водам, не колеблются в помысле своем опасением потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства, и человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных и не взирать на видение, невыносимое для чувств.
Конечно, думается тебе, что душевным (умовым, рассудочным) ведением иной приемлет оное духовное ведение? Не только невозможно душевным ведением принять это духовное, но даже нет возможности ощутить его и чувством, или сподобиться его кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. И если некоторые из них желают приблизиться к этому духовному ведению, то, пока не отрекутся от сего душевного и от всяких изворотов его тонкости, и многосложных его способов, и не поставят себя в младенческий образ мыслей, до тех пор не возмогут приблизиться, хотя бы немного, к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывают для них навык и понятия душевного ведения, пока не изгладят сего мало по малу. Это духовное ведение просто, и не просиявает в помыслах душевных.
Пока разум не освободится от помыслов многих (неразрывных с душевным ведением) и не прийдет в единую простоту чистоты, до тех пор не возможет ощутить духовного ведения.
Вот порядок сего ведения — ощутить наслаждение этою жизнью этого века…. Но такого духовного ведения никто не может принять, если не обратится, и не будет, как дитя. Ибо с сего только времени ощущается это услаждение небесным царствием. О царствии небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. И обретается оно не делами помыслов (т. е. не усилиями рассудка), но может быть вкушаемо по благодати. И пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Если ты, чадо, достигнешь чистоты сердца, производимой верою в безмолвии от людей, и позабудешь знание мира сего, так что не будешь и ощущать его: то внезапно обретается пред тобою духовное ведение, без розыскания о нём… Если же удерживаешься веревкой душевного знания, то уместно мне сказать, что удобнее тебе освободиться от железных оков, нежели от этой веревки; и всегда будешь не далек от сетей прелести, и никогда не уразумеешь, как возыметь дерзновение перед Господом и упование на Него, на всякий же час будешь ходить по острию меча, и никоим образом не возможешь быть без печали».
«Душа, пока болезнует страстями, не ощущает чувством своим духовного и не умеет желать его, желает же только по слуху ушей и по писаниям».
«…Обучение и ведение при страстях не приносят пользы, и недостаточны к тому, чтобы отверзать дверь, заключенную перед лицом чистоты. Если же отняты от души будут страсти, то ум просветляется и поставляется на первом месте естества, и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит блага, обретаемые на своем месте. Ибо, как внешние наши чувства, не вследствие обучения и вопросов ощущают соприкосновенные им естества и вещи, но каждое чувство естественно, а не с помощью вопросов, ощущает встречающуюся ему вещь (потому что нет учения посредствующего между ощущающим и ощущаемым; слепому сколько ни говори о славе солнца и луны, о сонме звезд, о блеске драгоценных вещей,— и приемлет, и судит, и представляет себе красоту, какую имеют они, только по названию; знание же и рассуждение его далеки от удовольствия, доставляемого самим видением); так, подобным сему образом, представляй себе и о созерцании духовном. Ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны духа, если он в своем естественном здравии, вполне созерцает славу Христову, и не спрашивает, и не учится, но наслаждается тайнами нового мира».
«Желать посредством исследования и расспросов дознавать тайны есть неразумие души».
«Начало, средину и конец духовного жития составляет следующее: отсечение всего единением о Христе»
«…За сохранение заповедей ум сподобляется откровений духовного ведения».
«Я же, крестившийся Духом Святым и исполненный благодати (св. Исаак говорит об Апостоле Павле), хочу внутрь себя принять ощущение живущего во мне Христа».
«При томлении гортани рождается в душе плод — ведение таин Божиих».
«При чистоте ума человек приходит в ведение таин Божиих».
«Подвижничество есть матерь святыни, от него происходит первое изведание ощущения таин Христовых, что называется первою степенью духовного познания».
«Живущий в любви… в этом еще мире, в ощущаемом здесь, обоняет оный воздух воскресения».
«…Когда вера будет сопровождать дела, и постепенно придет в делание, тогда рождает духовное ведение, о котором сказали мы, что рождается оно от веры.
Естественное ведение, т. е. различение добра и зла, вложенное в природу нашу Богом, само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему всё в бытие. А вера производит в нас страх; страх же понуждает нас к покаянию и деланию. Так дается человеку духовное ведение, т. е. ощущение таин, которое рождает веру истинного созерцания. А таким образом, не просто от одной голой веры рождается духовное ведение, но вера рождает страх Божий, и при Божием страхе, когда в нем начнем действовать, от действия сего страха рождается духовное ведение, как сказал святый Иоанн Златоуст: «Когда приобрел кто волю, соответствующую страху Божию и правильному образу мыслей, тогда скоро приемлет он откровение сокровенного. Откровением же сокровенного называет он духовное ведение»…
…«Духовное ведение есть ощущение сокровенного. И когда ощутит кто сие невидимое, и во многом превосходнейшее, тогда приемлет оно от сего именование духовного ведения, и в ощущении его рождается иная вера, непротивная вере первой, но утверждающая ту веру. Называют же ее верою созерцательною. Дотоле был слух, а теперь созерцание; созерцание же несомненнее слуха».
От богоносного сирского философа перейдем к преподобному Симеону, Новому Богослову.
«Поистине, одна только есть печать Христова,— пишет преподобный, — осияние Духа Святого, хотя много есть видов воздействий Его и много знамений силы Его».
«Только тот ум, который соединяется с Богом посредством веры и познает Его через делание заповедей, только такой, наивернейше сподобляется видеть Его и созерцательно; ибо через посредство веры, какую имеет он во Христа, вселяется Христос внутрь него и делает его обоженным».
«Если здесь сподобимся мы познать Его чувством души своей, то не умрем, смерть не возобладает нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, но здесь, в этом мире, поподвизаемся увидеть Его».
«Истинный христианин есть тот, который искренно исповедал перед Богом и Ангелами во время крещения своего, что отрекся диавола и всех сатанинских дел его и дал обет служить Христу Господу, исполняя все святые заповеди Его, и таким образом сподобился таинственно принять благодать Божию сокровенную, и ощутить ее в духе, т. е. сознать духом, что принял ее».
«Постараемся сохранить божественные заповеди и очистить сердца свои слезами и покаянием, да узрим самого Христа — сей свет божественный, и да стяжаем Его еще здесь, в настоящей жизни, в Обитателя в нас, да животворит Он души наши благодатью Всесвятаго Духа, и да питает их сладостью ожидаемых благ Царствия Своего».
«Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно, т. е. так, чтобы опытно знал, что имеет в себе таковую благодать».
«Надлежит человеку здесь на земле родиться свыше от божественной благодати, и тогда возможет он увидеть Царствие Божие. Кто не видит в себе, царствия небесного, т. е. не видит, что в нем царствует Бог, тот не родился еще свыше от божественной благодати, и надлежит ему всячески взыскать того, чтоб родиться свыше, да узрит Царствие Божие еще здесь на земле».
«Кто как должно верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, которая есть благодать Господа нашего Иисуса Христа. Кто же верует во Христа, а жизни вечной в себе не имеет, того тщетна н бесполезна вера».
«Таков закон новой жизни во Христе Иисусе, что Христос Господь благодатью Св. Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает им жизнь, и дарует очи видеть Его Самого бессмертного и нетленного живущим в нас».
«Итак, христиане, которые не видят умно Господа, не освещаются явственно и знательно Его Божеским светом, не видят Его пребывающим в себе, пусть не говорят, как неверные, что невозможно Его видеть; но каждый из нас, возлюбленные мои, пусть испытает совесть свою, и конечно найдёт, что сам виноват, что не имеет в себе Бога и не видит славы Его».
«Великое благо есть веровать во Христа, потому что без веры во Христа никому невозможно спастись; но надобно и научиться слову истины и познать его. Благо есть научиться слову истины, и знать его необходимо; но надобно и крещение принять во имя Святой и Живоначальной Троицы, для оживления души. Благо есть крещение принять и чрез него новую жизнь духовную, но надобно, чтоб и чувством ощущена была сия таинственная жизнь, или умное в духе просвещение».
«Воскресению Христову верят премногие — многие; но мало таких, которые бы чисто зрели Его. Те же, которые не зрят так воскресения Христова, не могут поклоняться Иисусу Христу, как Господу. Почему священная песнь, которую часто имеем мы в устах своих гласит: Воскресение Христово не веровавши, а что? Воскресение Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Как же это Святый Дух подвигает нас петь: Воскресение Христово видевши, т, е., что мы видели воскресение Христово, — когда мы не видали его, так как Христос воскрес больше тысячи лет прежде, да и тогда никто не видал, как Он воскрес? Уж не хочет ли песнь церковная научить нас говорить ложь? Да не будет! Перестань злословить!— Напротив, она завещала нам возглашать этими словами совершенную истину, напоминая о том воскресении Христовом, которое бывает в каждом из нас верных, и бывает не просто, но светоносно, блистая сияниями Божества Его и нетления. Светоносное присутствие Духа показывает на совершившееся в нас воскресение Господне, и еще более — дает нам благодать видеть самого воскресшего Христа Господа. Почему и поем: Бог Господь и явился нам; и желая показать второе Его пришествие, прибавляем вслед затем: благословен грядущий во имя Господне. Итак, в тех, в которых явился Христос воскресший, всеконечно Он и виден бывает духовно, и видится духовными очами. Ибо, когда приходит в нас Христос благодатью Святого Духа, то воскрешает нас из мертвых, какими бываем до того, и животворит, и делает, что мы видим в себе, живым Его Самого, бессмертного и нетленного».
Говоря о маловерах или полуверах, которые »не показывают веру свою делами», св. Симеон называет их веру беспомощною и бесполезною, как веру, по слову Апостола, мертвую. Вера без дел мертва (Иак. 2, 20). «Почему же мертва такая вера?»— вопрошает преподобный. «Потому, — отвечает он, — что не имеет в себе Бога животворящего, — что не стяжает в себя Христа сказавшего: любящий Меня, заповеди Мои соблюдет, и Я и Отец придем и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23), чтобы присутствием своим воскресить из мертвых того, кто стяжает такую деятельную веру, оживотворить его и дать ему видеть самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего».
«Господь так скажет: »0 человеки! Познали ли вы Меня? Видели ли свет Мой? Приняли ли вы Меня внутрь себя? Познали ли действия Духа Моего самим искусом и опытом, или нет?»»
«Я говорю,— пишет тот же святой,— о тех еретиках которые говорят, что в нынешние наши времена и среди нас нет никого, кто бы мог соблюсти заповеди Евангелия и быть, как были святые отцы, во первых, верным и деятельным: ибо вера в делах обнаруживается, как в зеркале является подобие лица, а потом мог бы быть созерцательным или Богозрительным, т. е. зреть Бога чрез просвещение от Духа Святого, или, приняв Духа, благодатью Его зреть Сына со Отцем. Так те, которые почитают это невозможным, еретики и имеют не одну какую либо частную ересь, но, можно сказать, все ереси; поскольку эта ересь нечестием и богохулением своим превосходит и затмевает все другие, и кто говорит так, низвращает все Божественные Писания».
«От заповедей рождаются добродетели, а от добродетелей явными делаются таинства, сокрытые в букве Писания. Тогда преуспевают в добродетелях, когда хранят заповеди; и опять тогда хранят заповеди, когда ревнуют о добродетелях; а посредством добродетелей и заповедей открывается для нас дверь ведения, или, лучше сказать, она открывается Иисусом Христом, Который сказал: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,. тот любит Меня… И Я возлюблю его и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21). Таким образом, когда вселится в нас Бог и откроет нам Себя заведомо (знательно, осязательно), тогда и мы прозрим к ведению, т. е., уразумеем действенно те божественные таинства, которые сокрыты в Божественных Писаниях. Другим же каким либо способом достигнуть этого невозможно. И пусть никто себя не обманывает, думая, что открыл иначе как этот сундучок ведения и вкусил благ, которые внутри его, т. е., достиг причастия их и созерцания их».
«Удостоверение в действенности спасения одно, это духовное чувство благодати Всесвятаго Духа, даруемой от Бога ради веры духовной силе ума».
«Все это,— заключает преп. Симеон,— надлежит тебе, возлюбленный, познать самим делом и испытать всем чувством души твоей, чтоб стяжать в себя Бога, Который возводил бы тебя вместе с Собою на небеса, теперь в сей жизни без тела, а после в другой жизни воскресил бы тебя и тело сие, соделав его вседуховным, и потом уже царствовал над тобою нескончаемые веки, тебя носил и Сам тобою был носим, сущий над всеми Бог».
Из далеких от нас келий богоносного философа, отшельника Сирии, и преподобного богослова, наставника Греции, перенесемся в близкие к нам, почти современные палаты государственного деятеля. Не услышим ли в них голоса, родственного и философу, и богослову?!
«Возвращайтесь, о, возвращайтесь, любезный друг, к этим (трем) упражнениям, и смею вас уверить от имени Того, чья радость состоит в жизни и общении с людьми, что Он не замедлит явиться. Он придёт излить свет свой на ваш разум, очищать чувство ваше, руководить вашими действиями. Вы ощутите в себе силы, до сих пор вам неизвестные. Томления ваши рассеются, ибо Он придет не в виде мысли, отвлеченного понятия, как испытывали вы доселе, но столь же действительно, столь же физически (существенно — еп. Феофан) как сегодня восходящее солнце. Ибо, когда раз раскроется пред нами зрелище духовного мира, невозможно не чувствовать солнца, им управляющего. Но спрашиваю вас: что действительнее — мир духовный, или вещественный?
Не говорю, чтобы все было сделано, как только достигнешь этого состояния ощущаемого общения. (Этим полагается только начало новой степени, или нового периода христианской жизни,— еп. Феофан). О нет, остается еще сделать многое, чтоб достигнуть иного общения, которое отрешено не только от всякого образа, но и от всякой мысли, общения, почти неизъяснимого словом, хотя весьма действительного.
«Одно дело,— говорит Климент Александрийский,— что приобретено упражнением, и учением, и иное, что воспринято через откровение верою. Только последний путь ведет к познанию божественной Истины, и она очень близка от нас, даже в наших жилищах, как свидетельствует боговидец Моисей».
«Научает нас,— утверждает блж. Августин,— внутренний Учитель, научает Христос, божественное вдохновение; где нет этого вдохновения и внутреннего просвещения, там тщетно действие слов извне».
И если Духа Божия нет в сердце слушателя,— подтверждает также Григорий Богослов,— то напрасны рассуждения учителя, ибо, если Тот, Кто научает, не находится внутри, то язык учителя, который вне, трудится понапрасну.
«Потому что,— заключает блж. Иероним,— закон духовен, и нужно откровение, чтобы понимать его».
«Кто слышит только внешний и плотской голос,— поучает св. Лев Великий,— тот слышит тварь; Бог же есть Дух, и Его можно слышать только чрез Духа, так и Иисуса никто не может назвать Господом, как только Духом Святым».
«Лучшее и вернейшее познание Бога не то, которое выработано усилиями рассудка и выпотением мозга, но то, которое возгорается от небесного огня в сердцах наших и вносит в душу божественный свет, свет,— как говорит Ориген,— более ясный и убедительный, чем все рассудочные доказательства. В этом то и состоит познание Истины, как она пребывает во Христе Иисусе,— в том сладостном, кротком, смиренном и любящем духе Иисуса, который, как утреннее солнце, сияет на злых и благих».
«Искать же боговедения лишь в книгах и писаниях значит,— по словам блж. Августина,— искать живого между мертвыми. Intra te queer Deum! Он лучше всего распознается, так сказать, духовным осязанием. Мы должны стремиться видеть Его своими глазами, слышать своими ушами, и наши руки должны осязать Слово жизни. Ведь душа наша, как и тело, имеет свое чувство: вкусите и видите, как благ Господь!»
Достаточно и сих свидетельств, утверждающих то положение, что божественное, внутреннее откровение Духа есть основной источник Богопознания.
Приведу теперь свидетельства, не только утверждающие и раскрывающие только что высказанное мною положение, но с особенной силой настаивающие на необходимости и безусловной общеобязательности того пути Богопознания, который, повторяю, оставлен и забыт нами на великое горе нам, на великое,— ибо в забвении пути сего кроется причина главнейших недугов наших и нашей неспособности исцелить их.
Начну со св. Исаака Сирина, этого величайшего, по мнению Киреевского, философа-христианина.
«Пока душа не придет в упокоение верою в Бога, приятием в себя силы ея ощущения, дотоле не уврачует немощи чувств, не возможет с силою попрать видимого вещества, которое служить преградою внутреннему».
«Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом, приять в себя ощущение этого услаждения, не порабощенного чувствам? Послужи милостыне».
«Кто целомудрен, смиренномудр, гнушается вольностью в словах, и изгнал из сердца раздражительность, тот (уверен я в этом), как скоро станет на молитву, видит в душе, своей свет Св. Духа».
Различая три степени ведения св. Исаак пишет:
«Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу.
Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры.
Третья же есть упокоение от делания (что есть образ будущего) в едином упражнении ума, наслаждающегося тайнами будущего… Все святые, сподобившиеся обрести житие сие (а это есть восторжение к Богу) по силе веры, пребывают в услаждении оным превышеестественным житием. Веру же разумеем не ту, какую человек имеет в рассуждении различия достопокланяемых Божественных Ипостасей, все превосходящего и особенного естества в самом Божестве, чудного домостроительства в воплощении восприятием нашего естества (хотя и сия вера крайне высока), но веру, воссиявающую в душе, от света благодати, свидетельством ума подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого самомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны, невидимое и божественное богатство, сокровенное для очей сынов плоти, и открываемое Духом питающимся с трапезы Христовой, в поучении законам Христовым, как сказал Господь: если заповеди Мои соблюдете, пошлю вам Утешителя, Духа Истины, Его же мир не может принять и Он вас научит всякой истине (Ин. 16, 17, 26). Он указывает человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время,… которая познаётся святыми (более) в опытном приобщении к ней».
«Утверждение веры в Бога не то, что здравое исповедание, хотя оно и матерь веры, напротив того, душа видит истину Божию по силе жития».
«Несомненность веры в людях высоких душою открывается по мере того, как нравы их внимательны к житию по заповедям Господним».
«Что такое ведение?— вопрошает св. Исаак. И дает ответ: » Ощущение бессмертной жизни» .— »Что такое бессмертная жизнь?» — »Ощущение в Боге»».
«Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной!»— восклицает святой.
«Истина есть ощущение по Богу, какое только вкушает в себе человек ощущением чувств духовного ума».
«Проси у Бога, чтобы дал тебе прийти в меру веры. И если ощутишь в душе своей наслаждение сие, то нетрудно сказать мне при этом, что ничем уже не отвратить тебя от Христа… Об этом молись неленостно, сего испрашивай с горячностью, об этом умоляй с великим рачением, пока не получишь».
«Когда Бог усмотрит в тебе сию волю, что со всею чистотою мыслей доверился ты самому Богу более, нежели себе самому….тогда вселится в тебя оная неведомая сила, и ощутительно почувствуешь, что с тобою несомненно сила, та сила, которую ощутив в себе, многие идут в огонь, и не боятся, и ходя по водам, не колеблются в помысле своем опасением потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства, и человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных и не взирать на видение, невыносимое для чувств.
Конечно, думается тебе, что душевным (умовым, рассудочным) ведением иной приемлет оное духовное ведение? Не только невозможно душевным ведением принять это духовное, но даже нет возможности ощутить его и чувством, или сподобиться его кому-либо из ревностно упражняющихся в ведении душевном. И если некоторые из них желают приблизиться к этому духовному ведению, то, пока не отрекутся от сего душевного и от всяких изворотов его тонкости, и многосложных его способов, и не поставят себя в младенческий образ мыслей, до тех пор не возмогут приблизиться, хотя бы немного, к ведению духовному. Напротив того, великим препятствием бывают для них навык и понятия душевного ведения, пока не изгладят сего мало по малу. Это духовное ведение просто, и не просиявает в помыслах душевных.
Пока разум не освободится от помыслов многих (неразрывных с душевным ведением) и не прийдет в единую простоту чистоты, до тех пор не возможет ощутить духовного ведения.
Вот порядок сего ведения — ощутить наслаждение этою жизнью этого века…. Но такого духовного ведения никто не может принять, если не обратится, и не будет, как дитя. Ибо с сего только времени ощущается это услаждение небесным царствием. О царствии небесном говорят, что оно есть духовное созерцание. И обретается оно не делами помыслов (т. е. не усилиями рассудка), но может быть вкушаемо по благодати. И пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Если ты, чадо, достигнешь чистоты сердца, производимой верою в безмолвии от людей, и позабудешь знание мира сего, так что не будешь и ощущать его: то внезапно обретается пред тобою духовное ведение, без розыскания о нём… Если же удерживаешься веревкой душевного знания, то уместно мне сказать, что удобнее тебе освободиться от железных оков, нежели от этой веревки; и всегда будешь не далек от сетей прелести, и никогда не уразумеешь, как возыметь дерзновение перед Господом и упование на Него, на всякий же час будешь ходить по острию меча, и никоим образом не возможешь быть без печали».
«Душа, пока болезнует страстями, не ощущает чувством своим духовного и не умеет желать его, желает же только по слуху ушей и по писаниям».
«…Обучение и ведение при страстях не приносят пользы, и недостаточны к тому, чтобы отверзать дверь, заключенную перед лицом чистоты. Если же отняты от души будут страсти, то ум просветляется и поставляется на первом месте естества, и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит блага, обретаемые на своем месте. Ибо, как внешние наши чувства, не вследствие обучения и вопросов ощущают соприкосновенные им естества и вещи, но каждое чувство естественно, а не с помощью вопросов, ощущает встречающуюся ему вещь (потому что нет учения посредствующего между ощущающим и ощущаемым; слепому сколько ни говори о славе солнца и луны, о сонме звезд, о блеске драгоценных вещей,— и приемлет, и судит, и представляет себе красоту, какую имеют они, только по названию; знание же и рассуждение его далеки от удовольствия, доставляемого самим видением); так, подобным сему образом, представляй себе и о созерцании духовном. Ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны духа, если он в своем естественном здравии, вполне созерцает славу Христову, и не спрашивает, и не учится, но наслаждается тайнами нового мира».
«Желать посредством исследования и расспросов дознавать тайны есть неразумие души».
«Начало, средину и конец духовного жития составляет следующее: отсечение всего единением о Христе»
«…За сохранение заповедей ум сподобляется откровений духовного ведения».
«Я же, крестившийся Духом Святым и исполненный благодати (св. Исаак говорит об Апостоле Павле), хочу внутрь себя принять ощущение живущего во мне Христа».
«При томлении гортани рождается в душе плод — ведение таин Божиих».
«При чистоте ума человек приходит в ведение таин Божиих».
«Подвижничество есть матерь святыни, от него происходит первое изведание ощущения таин Христовых, что называется первою степенью духовного познания».
«Живущий в любви… в этом еще мире, в ощущаемом здесь, обоняет оный воздух воскресения».
«…Когда вера будет сопровождать дела, и постепенно придет в делание, тогда рождает духовное ведение, о котором сказали мы, что рождается оно от веры.
Естественное ведение, т. е. различение добра и зла, вложенное в природу нашу Богом, само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему всё в бытие. А вера производит в нас страх; страх же понуждает нас к покаянию и деланию. Так дается человеку духовное ведение, т. е. ощущение таин, которое рождает веру истинного созерцания. А таким образом, не просто от одной голой веры рождается духовное ведение, но вера рождает страх Божий, и при Божием страхе, когда в нем начнем действовать, от действия сего страха рождается духовное ведение, как сказал святый Иоанн Златоуст: «Когда приобрел кто волю, соответствующую страху Божию и правильному образу мыслей, тогда скоро приемлет он откровение сокровенного. Откровением же сокровенного называет он духовное ведение»…
…«Духовное ведение есть ощущение сокровенного. И когда ощутит кто сие невидимое, и во многом превосходнейшее, тогда приемлет оно от сего именование духовного ведения, и в ощущении его рождается иная вера, непротивная вере первой, но утверждающая ту веру. Называют же ее верою созерцательною. Дотоле был слух, а теперь созерцание; созерцание же несомненнее слуха».
От богоносного сирского философа перейдем к преподобному Симеону, Новому Богослову.
«Поистине, одна только есть печать Христова,— пишет преподобный, — осияние Духа Святого, хотя много есть видов воздействий Его и много знамений силы Его».
«Только тот ум, который соединяется с Богом посредством веры и познает Его через делание заповедей, только такой, наивернейше сподобляется видеть Его и созерцательно; ибо через посредство веры, какую имеет он во Христа, вселяется Христос внутрь него и делает его обоженным».
«Если здесь сподобимся мы познать Его чувством души своей, то не умрем, смерть не возобладает нами. Не будем дожидаться узреть Его в будущей жизни, но здесь, в этом мире, поподвизаемся увидеть Его».
«Истинный христианин есть тот, который искренно исповедал перед Богом и Ангелами во время крещения своего, что отрекся диавола и всех сатанинских дел его и дал обет служить Христу Господу, исполняя все святые заповеди Его, и таким образом сподобился таинственно принять благодать Божию сокровенную, и ощутить ее в духе, т. е. сознать духом, что принял ее».
«Постараемся сохранить божественные заповеди и очистить сердца свои слезами и покаянием, да узрим самого Христа — сей свет божественный, и да стяжаем Его еще здесь, в настоящей жизни, в Обитателя в нас, да животворит Он души наши благодатью Всесвятаго Духа, и да питает их сладостью ожидаемых благ Царствия Своего».
«Тщетно именуется христианином тот, кто не имеет в себе благодати Христовой ощутительно, т. е. так, чтобы опытно знал, что имеет в себе таковую благодать».
«Надлежит человеку здесь на земле родиться свыше от божественной благодати, и тогда возможет он увидеть Царствие Божие. Кто не видит в себе, царствия небесного, т. е. не видит, что в нем царствует Бог, тот не родился еще свыше от божественной благодати, и надлежит ему всячески взыскать того, чтоб родиться свыше, да узрит Царствие Божие еще здесь на земле».
«Кто как должно верует во Христа, тот имеет жизнь вечную в себе, которая есть благодать Господа нашего Иисуса Христа. Кто же верует во Христа, а жизни вечной в себе не имеет, того тщетна н бесполезна вера».
«Таков закон новой жизни во Христе Иисусе, что Христос Господь благодатью Св. Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает им жизнь, и дарует очи видеть Его Самого бессмертного и нетленного живущим в нас».
«Итак, христиане, которые не видят умно Господа, не освещаются явственно и знательно Его Божеским светом, не видят Его пребывающим в себе, пусть не говорят, как неверные, что невозможно Его видеть; но каждый из нас, возлюбленные мои, пусть испытает совесть свою, и конечно найдёт, что сам виноват, что не имеет в себе Бога и не видит славы Его».
«Великое благо есть веровать во Христа, потому что без веры во Христа никому невозможно спастись; но надобно и научиться слову истины и познать его. Благо есть научиться слову истины, и знать его необходимо; но надобно и крещение принять во имя Святой и Живоначальной Троицы, для оживления души. Благо есть крещение принять и чрез него новую жизнь духовную, но надобно, чтоб и чувством ощущена была сия таинственная жизнь, или умное в духе просвещение».
«Воскресению Христову верят премногие — многие; но мало таких, которые бы чисто зрели Его. Те же, которые не зрят так воскресения Христова, не могут поклоняться Иисусу Христу, как Господу. Почему священная песнь, которую часто имеем мы в устах своих гласит: Воскресение Христово не веровавши, а что? Воскресение Христово видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Как же это Святый Дух подвигает нас петь: Воскресение Христово видевши, т, е., что мы видели воскресение Христово, — когда мы не видали его, так как Христос воскрес больше тысячи лет прежде, да и тогда никто не видал, как Он воскрес? Уж не хочет ли песнь церковная научить нас говорить ложь? Да не будет! Перестань злословить!— Напротив, она завещала нам возглашать этими словами совершенную истину, напоминая о том воскресении Христовом, которое бывает в каждом из нас верных, и бывает не просто, но светоносно, блистая сияниями Божества Его и нетления. Светоносное присутствие Духа показывает на совершившееся в нас воскресение Господне, и еще более — дает нам благодать видеть самого воскресшего Христа Господа. Почему и поем: Бог Господь и явился нам; и желая показать второе Его пришествие, прибавляем вслед затем: благословен грядущий во имя Господне. Итак, в тех, в которых явился Христос воскресший, всеконечно Он и виден бывает духовно, и видится духовными очами. Ибо, когда приходит в нас Христос благодатью Святого Духа, то воскрешает нас из мертвых, какими бываем до того, и животворит, и делает, что мы видим в себе, живым Его Самого, бессмертного и нетленного».
Говоря о маловерах или полуверах, которые »не показывают веру свою делами», св. Симеон называет их веру беспомощною и бесполезною, как веру, по слову Апостола, мертвую. Вера без дел мертва (Иак. 2, 20). «Почему же мертва такая вера?»— вопрошает преподобный. «Потому, — отвечает он, — что не имеет в себе Бога животворящего, — что не стяжает в себя Христа сказавшего: любящий Меня, заповеди Мои соблюдет, и Я и Отец придем и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23), чтобы присутствием своим воскресить из мертвых того, кто стяжает такую деятельную веру, оживотворить его и дать ему видеть самого Христа, воскресшего в нем и его воскресившего».
«Господь так скажет: »0 человеки! Познали ли вы Меня? Видели ли свет Мой? Приняли ли вы Меня внутрь себя? Познали ли действия Духа Моего самим искусом и опытом, или нет?»»
«Я говорю,— пишет тот же святой,— о тех еретиках которые говорят, что в нынешние наши времена и среди нас нет никого, кто бы мог соблюсти заповеди Евангелия и быть, как были святые отцы, во первых, верным и деятельным: ибо вера в делах обнаруживается, как в зеркале является подобие лица, а потом мог бы быть созерцательным или Богозрительным, т. е. зреть Бога чрез просвещение от Духа Святого, или, приняв Духа, благодатью Его зреть Сына со Отцем. Так те, которые почитают это невозможным, еретики и имеют не одну какую либо частную ересь, но, можно сказать, все ереси; поскольку эта ересь нечестием и богохулением своим превосходит и затмевает все другие, и кто говорит так, низвращает все Божественные Писания».
«От заповедей рождаются добродетели, а от добродетелей явными делаются таинства, сокрытые в букве Писания. Тогда преуспевают в добродетелях, когда хранят заповеди; и опять тогда хранят заповеди, когда ревнуют о добродетелях; а посредством добродетелей и заповедей открывается для нас дверь ведения, или, лучше сказать, она открывается Иисусом Христом, Который сказал: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,. тот любит Меня… И Я возлюблю его и явлюся ему Сам (Ин. 14, 21). Таким образом, когда вселится в нас Бог и откроет нам Себя заведомо (знательно, осязательно), тогда и мы прозрим к ведению, т. е., уразумеем действенно те божественные таинства, которые сокрыты в Божественных Писаниях. Другим же каким либо способом достигнуть этого невозможно. И пусть никто себя не обманывает, думая, что открыл иначе как этот сундучок ведения и вкусил благ, которые внутри его, т. е., достиг причастия их и созерцания их».
«Удостоверение в действенности спасения одно, это духовное чувство благодати Всесвятаго Духа, даруемой от Бога ради веры духовной силе ума».
«Все это,— заключает преп. Симеон,— надлежит тебе, возлюбленный, познать самим делом и испытать всем чувством души твоей, чтоб стяжать в себя Бога, Который возводил бы тебя вместе с Собою на небеса, теперь в сей жизни без тела, а после в другой жизни воскресил бы тебя и тело сие, соделав его вседуховным, и потом уже царствовал над тобою нескончаемые веки, тебя носил и Сам тобою был носим, сущий над всеми Бог».
Из далеких от нас келий богоносного философа, отшельника Сирии, и преподобного богослова, наставника Греции, перенесемся в близкие к нам, почти современные палаты государственного деятеля. Не услышим ли в них голоса, родственного и философу, и богослову?!
«Возвращайтесь, о, возвращайтесь, любезный друг, к этим (трем) упражнениям, и смею вас уверить от имени Того, чья радость состоит в жизни и общении с людьми, что Он не замедлит явиться. Он придёт излить свет свой на ваш разум, очищать чувство ваше, руководить вашими действиями. Вы ощутите в себе силы, до сих пор вам неизвестные. Томления ваши рассеются, ибо Он придет не в виде мысли, отвлеченного понятия, как испытывали вы доселе, но столь же действительно, столь же физически (существенно — еп. Феофан) как сегодня восходящее солнце. Ибо, когда раз раскроется пред нами зрелище духовного мира, невозможно не чувствовать солнца, им управляющего. Но спрашиваю вас: что действительнее — мир духовный, или вещественный?
Не говорю, чтобы все было сделано, как только достигнешь этого состояния ощущаемого общения. (Этим полагается только начало новой степени, или нового периода христианской жизни,— еп. Феофан). О нет, остается еще сделать многое, чтоб достигнуть иного общения, которое отрешено не только от всякого образа, но и от всякой мысли, общения, почти неизъяснимого словом, хотя весьма действительного.
Так пишет своему другу-протестанту граф М. М. Сперанский.
Примечайте,— говорит он же в своем письме к П. А. Словцову,— всякая добрая мысль, всякое доброе движение воли, есть и движение Христово. Без Меня не можете творить ничего (Ин. 15, 5). По мере того как вы будете примечать в себе эти движения и относить их ко Христу, в вас действующему, Он будет в вас возрастать, и наконец, вы достигнете того счастливого мгновения, когда в состоянии будете ощутить Его с такою живостью, с таким внутренним убеждением в действительном Его присутствии, что с непостижимою вам самим радостью скажете: »так, это точно Он, Господь мой и Бог мой!»»
«Живое и действительное обращение со Христом,— продолжает граф, спустя несколько страниц,— откроет вам первую возможность разуметь Св. Писание. Без сего обращения все усилия тщетны, всё это пустые умствования, душевная, а не духовная ученость, и одно суесловие. Слова Мои дух суть и жизнь суть. Но кто же откроет дух Христов кроме Него Самого? Св. Писание вообще не что иное есть, как изображение или представление в разных формах и видах одной и той же истины,. а именно того, как Бог беседовал и сообщался с людьми, сперва чрез пророков (Завет Ветхий), Потом ближе и яснее в образе Сына Своего Слова (Новый Завет). Это изображение начертано единственно для того, чтобы означить нам, что мы и в себе то же самое испытать можем и должны. Искать в Св. Писании наших бесплодных и пустых истин и суесловного порядка нашей бедной, пятичувственной логики — это значит ребячиться, забавлять себя безделками учености или литературы. Еще, повторяю: тут ничего не должно искать, кроме образа и представления Божиих с человеком сообщений. Но как понять, как поверить этим сообщениям, когда не знаем и не чувствуем их в себе, на самом опыте? А чувствуем в себе,— то какое приумножение веры и любви видеть, что тысячи других людей на необъятном расстоянии времен и языков, то же самое чувствовали и видели, что чувствуем и видим мы в сию минуту, и что все эти отдаленные изображения со всею точностью, действительно наяву в нас совершаются!»
Я ограничился лишь двумя выдержками из духовных Писаний М. М. Сперанского, но их можно бы предложить гораздо больше…
На смену широкообразованному, великому государственному человеку выступает один простой, лишь довольно грамотный странник.
«Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете… Нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы все один в уединении; только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мной делается… В сие время читал я мою Библию и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо говорят св. отцы, что Добротолюбие (а я читал его в это время) есть ключ к отверзению тайн в Св. Писании. При руководстве им я стал отчасти понимать сокровенный смысл Слова Божия: мне начало открываться, что такое внутренний потаённый сердца человек, что царствие внутрь нас, что неизреченное ходатайство совоздыхающаго Духа Святого, что будете во Мне, что дай Мне твое сердце, что значит облечься во Христа, что значит обручение Духа в сердцах наших, что взывание сердечное: Авва! Отче! и прочее. Когда при этом я начинал молиться сердцем, всё окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, всё как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и всё молится, всё воспевает славу Богу. И я понял из этого, что называется в Добротолюбии » ведением словес твари» и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими».
«Я также опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших».
«С месяц шел я потихоньку,— продолжает свой рассказ странник,— и глубоко чувствовал как назидательны и поощрительны бывают добрые живые примеры; часто читывал Добротолюбие и поверял все то, что я говорил слепому молитвеннику. Его поучительный пример воспламенял во мне ревность, признательность и любовь к Господу; молитва сердца столько меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в Царствии небесном. Не только чувствовал это внутри души моей, но всё и наружное представлялось мне в восхитительном виде, и всё влекло к любви и благодарению Бога… всё было мне как родное, на всем я находил изображения имени Иисуса Христа»(5).
Оставим странника совершать путь свой и прислушаемся к тому, что говорит совсем современный интеллигентный человек.
«Ты задумайся всею мыслью и всем сердцем прочувствуй: никто на всем свете,— и менее всего ты сам,— не может поручиться, что завтра, завтра ты встанешь с постели живым, безбедно переплыв ночь». Так пишет студент университета своему бывшему приятелю — толстовцу,—и продолжает: «живее и чаще думай о твоей личной смерти: ежедневно хотя бы 15 минут на ночь. Куда же мы пойдем, вышедши из тела? Неужели мое тело — это »я»?» «Нет,— слышен где-то из-под спуда тела голос.— Тело уснет, но »я», вышедши, буду жива». Вот то »я» и есть настоящее, подлинное. И если ты ежедневно настойчиво будешь допрашивать это придавленное телом »я» и будешь допрашивать, поставив его под угрозу завтра предстоящей смерти, то узнаешь от него нечто поразительное, что тебя сначала ужаснёт, но потом обновит, как обновило меня: ты узнаешь, что ты, истинный ты, бессмертен, что смерть лишь дверь в новую бесконечную, блаженную или ужасную жизнь, которую лишь одну и достойно человеку иметь ежеминутно в виду и к ней готовиться. Ты узнаешь ощутительно, что эта жизнь лишь странствование, и что не надо ничего любить в этом мире, ни к чему привязываться, ибо всё может быть отнято завтра. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр. 13, 14)».
«Когда ты поймешь и чувством опознаешь, что завтрашнего дня может для тебя и не быть, тогда ты поймешь, что от Кого-то твоя жизнь зависит всецело, от Кого-то Сущего (т. е. Живаго) вне этого мира, Всемогущего,— и это именно Тот, к Которому, вышедши из тела, мы пойдем. И это Тот, Которого надо назвать уж по одному этому,— по подвластности Ему, Бог мой, Господин, мой (Ин. 20, 28). И ты поймешь с ужасом, спасительнейшим ужасом (если он по навету дьявола не перейдет в отчаяние и самоубийство, от чего избави тебя, Боже!), как страшно выйти из тела (а это завтра может быть, ибо неизвестны день и час), не приготовившись, не узнав про то, что там. А там мир духовный, там все души умерших отцев наших и братий здесь лежащих и повсюду православных. Там Бог Живой, а страшно впасть в руки Бога Живаго, не примирившись с Ним уже здесь, пока Он дает время. А это время лишь для того и дано, а отнюдь не для удовольствий. Ты ощутительно узнаешь от души своей (а не от меня), если будешь её допрашивать истязательно, что в этом мире живет враг наш дьявол, дух бесплотный (т. е. без тела), невидимый нам и оттого страшный и сильный против нас. И вот, мой друг, этот враг старается убедить нас, что его нет, чтобы ему против нас действовать…»
«И знай истину: мы не умрем, смерть лишь дверь, открывающаяся в ту жизнь, жизнь же здесь во плоти, в теле мимолетная, и плоть занавеска, загораживающая то, что там есть. А что там есть, про это сказано в вере святой, окропленной кровью бесчисленных мучеников. И что там есть, узнаешь ощутительно в душе своей, если допросишь её истязательно, как сказано».
«А если бы ты познал,— заканчивает письмо свое автор,— сладость одного имени Иисусова, сладость того мига, когда Он в страшном таинстве причащения вселяется в наше сердце, и мы ощутительно опознаём, что Христос истинно воскрес, не умер, а жив… И таинство это после муки очистительной, благодетельной, целительной муки покаяния и исповедания грехов (при свидетеле — иерее, но первоначально в сердце), таинство причащения воистину страшно, ибо под видом хлеба и вина приемлем в свою убогую утлую храмину тела, храмину едва-едва подметенную, Самого Великого Бога, нашего Создателя и Промыслителя (Не чудо ли! Не страшное ли чудо!)».
«Но обо всем этом говорю с великой робостью, боясь за тебя, как бы ты не согрешил из-за того, что раньше времени я говорю о том, что есть для меня святое святых, а для тебя — неясно, недостоверно, сомнительно, странно…»
«Но прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его, Вкусите и видите, как благ Господь. Пока опытом не узнаешь, если Господь благословит (а буди! буди!), до тех пор твое сердце не будет биться однозвучно с моим. Святым Духом всякая душа оживляется, и чистотою возвышается, и священнотаинственно Троицею Единосущною просвещается».
«Мои дохристианские воззрения слишком тебе известны,— пишет чрезвычайно образованный человек, бывший революционер, пришедший через толстовство к Церкви,— напомню лишь о нашей теории самоспасения: «человек по существу, добр, добр собственно его умопостигаемый характер, а если его эмпирический(6) характер, обусловливающий все дурные поступки и зол, то изменить этот последний и уничтожить в себе эгоистические навыки, ставшие второй природой, дело возможное: стоит только протереть »стекла фонаря», и свет, заключенный в нём, польется на все окружающее. Но, несмотря на протирание стекол своего »фонаря», я радикальной перемены в сердце своем не чувствовал и смутно сознавал, что au fond(7) оно по прежнему остается »каменным». Сознание своей »ветхости» жестоко мучило меня, а выхода из этого »тупого угла» я не находил. Но вот раз, когда я углублялся в самого себя, точно молния прорезала мое сознание, и я увидел, что зол не эмпирический, а мой умопостигаемый характер, что зла сама моя природа в основании, зла моя духовная область, лежащая за пределами моего сознания. Само -исправление, стало быть, дело невозможное, равно как и само -спасение: из зла добра не выведешь. Совесть! Но она явственно говорит, обличает и судит только по совершении дурного дела. Да к тому же совесть, как отголосок Суда Божия, не так-то легко отличить от совести, как отголоска суда человеческого, сословного, личного (как нарушения собственных принципов). Мне стало ясно, что мои злые влечения, мысли, дела свидетельствуют лишь о характере источника, из которого они проистекают…»
«Так вот почему,— шептал я,— она, эта »искра», несмотря на все усилия, не возгоралась в душе моей! Так вот откуда это самочувствие Каина, приносящего жертвы, но непринимаемые Богом! И все мои внешние добродетели представились мне не более, как жалкими пустяками, как богопротивным лицедейством… Это открытие, в его целом, потрясло мою душу до основания. Я чувствовал, что не только топчусь на одном месте, но что я погибаю… Что же это такое, и что такое »я», наконец?»
«И я самоопределился так: »Ты,— отвечал мне мой внутренний голос,— стоик, драпирующийся в дырявую мантию своих самодельных добродетелей; ты — полубуддист, полупантеист, насильственно приплетший к своему миросозерцанию заповеди Христа; но главное, ты — кающийся интеллигент, но, в безумии своем, кающийся не перед Богом спасающим, а перед народом, этими голодными и холодными, которые так же не могут отпустить тебе твоих грехов, как не властен ты сам изменить свое злое настроение на доброе; словом, ты христианин без Христа!»»
«3атем, как я уверовал в Воскресшего, ты знаешь: напомню только, что в тот момент, когда я почувствовал прикосновение в сердце моем, я сразу узнал (ибо более реального я ничего не испытывал в жизни), что это Он, Господь мой воскресший. Это было впервые, что я назвал Иисуса Христа Господом и, не переставая называть Его этим именем, я чувствовал в том неизъяснимую сладость.
Хотя разум мой и долго бунтовался против сей истины, но, имея в центре своего существа несокрушимую веру в Воскресшего, мне уже не трудно было и разум привести в послушание вере».
Из боязни оказаться излишне многословным я ограничился краткой, сравнительно с громадным письмом, выпиской, хотя и все письмо представляется в высшей степени интересным и значительным… К тому же, на смену революционеру поспешает учительница, дочь шестидесятника, воспитанная в традициях эпохи реформ. И из её чрезвычайно поучительного и многознаменательного письма беру лишь немногие строки.
«Христос воскресе, дорогой… Я член церкви Христовой, мне прощены мои грехи, и я причастилась Св. Таин. Я поражена и уничтожена всепрощением Божиим. Простил, всё простил, потому что нет больше муки в моей душе; и солнце, и небо, весна и природа, всё для меня, как и для других; любовь родных, близких и детей (моих учениц) всё вернулось ко мне, хотя могло казаться, никогда и не отнималось. За что такая милость Божия? И я еще смела не прощать грехи другим, когда сама хуже всех, а Бог мне всё простил».
Упомянув о волнении, вызванном исповедью, девушка продолжает:
«Причастие Св. Таин успокоило меня… Я почувствовала себя в общении с Богом моим Иисусом Христом. Я теперь верю, что Он взял на Себя грехи Мира, что Он приходил на землю и был распят за нас всех и за меня, и искупил все прошедшие и будущие грехи людей».
«Чудны дела Твои, Господи! — радостно восклицает крещенная в детстве, но только через 25 лет узревшая Свет Христов, наставница юношества. — Да будет благословенно имя Господне отныне и до века!»
Посмотрим., согласно ли все это со Словом Божиим?
…И уже не я живу, но живет во мне Христос,— пишет к Галатам Ап. Павел. Что же это значит? А вот что. «Я умер, — изъясняет это место еп. Феофан,— но не с тем, чтобы мертвому быть, а чтобы жить иною жизнью, совершеннейшею. Я сораспялся Христу, и Христос, живой и в распятии, жизнью Своею меня исполнил: стал жить во мне. Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Это не нравственно только, в том смысле, что я Ему всецело предан и всё Ему посвящаю — и мысли, и чувства, и дела, и слова и внешнее мое всё, как и внутреннее,— ничего для себя не загадываю, всё для Него — так что меня будто нет, а есть только Он во мне, и угождать Ему единственная моя забота; но и самим делом, существенно, Он во мне».
Так у великого Апостола. Но бывает ли это с заурядными христианами, не призванными к великому служению учительскому?
…Да даст вам (Отец Господа Иисуса Христа) по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши… (Еф. 3, 16-17),— вот пожелание Апостольское христианам Ефеса.
Примечайте,— говорит он же в своем письме к П. А. Словцову,— всякая добрая мысль, всякое доброе движение воли, есть и движение Христово. Без Меня не можете творить ничего (Ин. 15, 5). По мере того как вы будете примечать в себе эти движения и относить их ко Христу, в вас действующему, Он будет в вас возрастать, и наконец, вы достигнете того счастливого мгновения, когда в состоянии будете ощутить Его с такою живостью, с таким внутренним убеждением в действительном Его присутствии, что с непостижимою вам самим радостью скажете: »так, это точно Он, Господь мой и Бог мой!»»
«Живое и действительное обращение со Христом,— продолжает граф, спустя несколько страниц,— откроет вам первую возможность разуметь Св. Писание. Без сего обращения все усилия тщетны, всё это пустые умствования, душевная, а не духовная ученость, и одно суесловие. Слова Мои дух суть и жизнь суть. Но кто же откроет дух Христов кроме Него Самого? Св. Писание вообще не что иное есть, как изображение или представление в разных формах и видах одной и той же истины,. а именно того, как Бог беседовал и сообщался с людьми, сперва чрез пророков (Завет Ветхий), Потом ближе и яснее в образе Сына Своего Слова (Новый Завет). Это изображение начертано единственно для того, чтобы означить нам, что мы и в себе то же самое испытать можем и должны. Искать в Св. Писании наших бесплодных и пустых истин и суесловного порядка нашей бедной, пятичувственной логики — это значит ребячиться, забавлять себя безделками учености или литературы. Еще, повторяю: тут ничего не должно искать, кроме образа и представления Божиих с человеком сообщений. Но как понять, как поверить этим сообщениям, когда не знаем и не чувствуем их в себе, на самом опыте? А чувствуем в себе,— то какое приумножение веры и любви видеть, что тысячи других людей на необъятном расстоянии времен и языков, то же самое чувствовали и видели, что чувствуем и видим мы в сию минуту, и что все эти отдаленные изображения со всею точностью, действительно наяву в нас совершаются!»
Я ограничился лишь двумя выдержками из духовных Писаний М. М. Сперанского, но их можно бы предложить гораздо больше…
На смену широкообразованному, великому государственному человеку выступает один простой, лишь довольно грамотный странник.
«Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете… Нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел, и был бы все один в уединении; только по привычке одного и хочется, чтобы беспрестанно творить молитву, и когда ею занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мной делается… В сие время читал я мою Библию и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумение. Справедливо говорят св. отцы, что Добротолюбие (а я читал его в это время) есть ключ к отверзению тайн в Св. Писании. При руководстве им я стал отчасти понимать сокровенный смысл Слова Божия: мне начало открываться, что такое внутренний потаённый сердца человек, что царствие внутрь нас, что неизреченное ходатайство совоздыхающаго Духа Святого, что будете во Мне, что дай Мне твое сердце, что значит облечься во Христа, что значит обручение Духа в сердцах наших, что взывание сердечное: Авва! Отче! и прочее. Когда при этом я начинал молиться сердцем, всё окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет, всё как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и всё молится, всё воспевает славу Богу. И я понял из этого, что называется в Добротолюбии » ведением словес твари» и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими».
«Я также опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших».
«С месяц шел я потихоньку,— продолжает свой рассказ странник,— и глубоко чувствовал как назидательны и поощрительны бывают добрые живые примеры; часто читывал Добротолюбие и поверял все то, что я говорил слепому молитвеннику. Его поучительный пример воспламенял во мне ревность, признательность и любовь к Господу; молитва сердца столько меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле, и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в Царствии небесном. Не только чувствовал это внутри души моей, но всё и наружное представлялось мне в восхитительном виде, и всё влекло к любви и благодарению Бога… всё было мне как родное, на всем я находил изображения имени Иисуса Христа»(5).
Оставим странника совершать путь свой и прислушаемся к тому, что говорит совсем современный интеллигентный человек.
«Ты задумайся всею мыслью и всем сердцем прочувствуй: никто на всем свете,— и менее всего ты сам,— не может поручиться, что завтра, завтра ты встанешь с постели живым, безбедно переплыв ночь». Так пишет студент университета своему бывшему приятелю — толстовцу,—и продолжает: «живее и чаще думай о твоей личной смерти: ежедневно хотя бы 15 минут на ночь. Куда же мы пойдем, вышедши из тела? Неужели мое тело — это »я»?» «Нет,— слышен где-то из-под спуда тела голос.— Тело уснет, но »я», вышедши, буду жива». Вот то »я» и есть настоящее, подлинное. И если ты ежедневно настойчиво будешь допрашивать это придавленное телом »я» и будешь допрашивать, поставив его под угрозу завтра предстоящей смерти, то узнаешь от него нечто поразительное, что тебя сначала ужаснёт, но потом обновит, как обновило меня: ты узнаешь, что ты, истинный ты, бессмертен, что смерть лишь дверь в новую бесконечную, блаженную или ужасную жизнь, которую лишь одну и достойно человеку иметь ежеминутно в виду и к ней готовиться. Ты узнаешь ощутительно, что эта жизнь лишь странствование, и что не надо ничего любить в этом мире, ни к чему привязываться, ибо всё может быть отнято завтра. Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр. 13, 14)».
«Когда ты поймешь и чувством опознаешь, что завтрашнего дня может для тебя и не быть, тогда ты поймешь, что от Кого-то твоя жизнь зависит всецело, от Кого-то Сущего (т. е. Живаго) вне этого мира, Всемогущего,— и это именно Тот, к Которому, вышедши из тела, мы пойдем. И это Тот, Которого надо назвать уж по одному этому,— по подвластности Ему, Бог мой, Господин, мой (Ин. 20, 28). И ты поймешь с ужасом, спасительнейшим ужасом (если он по навету дьявола не перейдет в отчаяние и самоубийство, от чего избави тебя, Боже!), как страшно выйти из тела (а это завтра может быть, ибо неизвестны день и час), не приготовившись, не узнав про то, что там. А там мир духовный, там все души умерших отцев наших и братий здесь лежащих и повсюду православных. Там Бог Живой, а страшно впасть в руки Бога Живаго, не примирившись с Ним уже здесь, пока Он дает время. А это время лишь для того и дано, а отнюдь не для удовольствий. Ты ощутительно узнаешь от души своей (а не от меня), если будешь её допрашивать истязательно, что в этом мире живет враг наш дьявол, дух бесплотный (т. е. без тела), невидимый нам и оттого страшный и сильный против нас. И вот, мой друг, этот враг старается убедить нас, что его нет, чтобы ему против нас действовать…»
«И знай истину: мы не умрем, смерть лишь дверь, открывающаяся в ту жизнь, жизнь же здесь во плоти, в теле мимолетная, и плоть занавеска, загораживающая то, что там есть. А что там есть, про это сказано в вере святой, окропленной кровью бесчисленных мучеников. И что там есть, узнаешь ощутительно в душе своей, если допросишь её истязательно, как сказано».
«А если бы ты познал,— заканчивает письмо свое автор,— сладость одного имени Иисусова, сладость того мига, когда Он в страшном таинстве причащения вселяется в наше сердце, и мы ощутительно опознаём, что Христос истинно воскрес, не умер, а жив… И таинство это после муки очистительной, благодетельной, целительной муки покаяния и исповедания грехов (при свидетеле — иерее, но первоначально в сердце), таинство причащения воистину страшно, ибо под видом хлеба и вина приемлем в свою убогую утлую храмину тела, храмину едва-едва подметенную, Самого Великого Бога, нашего Создателя и Промыслителя (Не чудо ли! Не страшное ли чудо!)».
«Но обо всем этом говорю с великой робостью, боясь за тебя, как бы ты не согрешил из-за того, что раньше времени я говорю о том, что есть для меня святое святых, а для тебя — неясно, недостоверно, сомнительно, странно…»
«Но прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его, Вкусите и видите, как благ Господь. Пока опытом не узнаешь, если Господь благословит (а буди! буди!), до тех пор твое сердце не будет биться однозвучно с моим. Святым Духом всякая душа оживляется, и чистотою возвышается, и священнотаинственно Троицею Единосущною просвещается».
«Мои дохристианские воззрения слишком тебе известны,— пишет чрезвычайно образованный человек, бывший революционер, пришедший через толстовство к Церкви,— напомню лишь о нашей теории самоспасения: «человек по существу, добр, добр собственно его умопостигаемый характер, а если его эмпирический(6) характер, обусловливающий все дурные поступки и зол, то изменить этот последний и уничтожить в себе эгоистические навыки, ставшие второй природой, дело возможное: стоит только протереть »стекла фонаря», и свет, заключенный в нём, польется на все окружающее. Но, несмотря на протирание стекол своего »фонаря», я радикальной перемены в сердце своем не чувствовал и смутно сознавал, что au fond(7) оно по прежнему остается »каменным». Сознание своей »ветхости» жестоко мучило меня, а выхода из этого »тупого угла» я не находил. Но вот раз, когда я углублялся в самого себя, точно молния прорезала мое сознание, и я увидел, что зол не эмпирический, а мой умопостигаемый характер, что зла сама моя природа в основании, зла моя духовная область, лежащая за пределами моего сознания. Само -исправление, стало быть, дело невозможное, равно как и само -спасение: из зла добра не выведешь. Совесть! Но она явственно говорит, обличает и судит только по совершении дурного дела. Да к тому же совесть, как отголосок Суда Божия, не так-то легко отличить от совести, как отголоска суда человеческого, сословного, личного (как нарушения собственных принципов). Мне стало ясно, что мои злые влечения, мысли, дела свидетельствуют лишь о характере источника, из которого они проистекают…»
«Так вот почему,— шептал я,— она, эта »искра», несмотря на все усилия, не возгоралась в душе моей! Так вот откуда это самочувствие Каина, приносящего жертвы, но непринимаемые Богом! И все мои внешние добродетели представились мне не более, как жалкими пустяками, как богопротивным лицедейством… Это открытие, в его целом, потрясло мою душу до основания. Я чувствовал, что не только топчусь на одном месте, но что я погибаю… Что же это такое, и что такое »я», наконец?»
«И я самоопределился так: »Ты,— отвечал мне мой внутренний голос,— стоик, драпирующийся в дырявую мантию своих самодельных добродетелей; ты — полубуддист, полупантеист, насильственно приплетший к своему миросозерцанию заповеди Христа; но главное, ты — кающийся интеллигент, но, в безумии своем, кающийся не перед Богом спасающим, а перед народом, этими голодными и холодными, которые так же не могут отпустить тебе твоих грехов, как не властен ты сам изменить свое злое настроение на доброе; словом, ты христианин без Христа!»»
«3атем, как я уверовал в Воскресшего, ты знаешь: напомню только, что в тот момент, когда я почувствовал прикосновение в сердце моем, я сразу узнал (ибо более реального я ничего не испытывал в жизни), что это Он, Господь мой воскресший. Это было впервые, что я назвал Иисуса Христа Господом и, не переставая называть Его этим именем, я чувствовал в том неизъяснимую сладость.
Хотя разум мой и долго бунтовался против сей истины, но, имея в центре своего существа несокрушимую веру в Воскресшего, мне уже не трудно было и разум привести в послушание вере».
Из боязни оказаться излишне многословным я ограничился краткой, сравнительно с громадным письмом, выпиской, хотя и все письмо представляется в высшей степени интересным и значительным… К тому же, на смену революционеру поспешает учительница, дочь шестидесятника, воспитанная в традициях эпохи реформ. И из её чрезвычайно поучительного и многознаменательного письма беру лишь немногие строки.
«Христос воскресе, дорогой… Я член церкви Христовой, мне прощены мои грехи, и я причастилась Св. Таин. Я поражена и уничтожена всепрощением Божиим. Простил, всё простил, потому что нет больше муки в моей душе; и солнце, и небо, весна и природа, всё для меня, как и для других; любовь родных, близких и детей (моих учениц) всё вернулось ко мне, хотя могло казаться, никогда и не отнималось. За что такая милость Божия? И я еще смела не прощать грехи другим, когда сама хуже всех, а Бог мне всё простил».
Упомянув о волнении, вызванном исповедью, девушка продолжает:
«Причастие Св. Таин успокоило меня… Я почувствовала себя в общении с Богом моим Иисусом Христом. Я теперь верю, что Он взял на Себя грехи Мира, что Он приходил на землю и был распят за нас всех и за меня, и искупил все прошедшие и будущие грехи людей».
«Чудны дела Твои, Господи! — радостно восклицает крещенная в детстве, но только через 25 лет узревшая Свет Христов, наставница юношества. — Да будет благословенно имя Господне отныне и до века!»
Посмотрим., согласно ли все это со Словом Божиим?
…И уже не я живу, но живет во мне Христос,— пишет к Галатам Ап. Павел. Что же это значит? А вот что. «Я умер, — изъясняет это место еп. Феофан,— но не с тем, чтобы мертвому быть, а чтобы жить иною жизнью, совершеннейшею. Я сораспялся Христу, и Христос, живой и в распятии, жизнью Своею меня исполнил: стал жить во мне. Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Это не нравственно только, в том смысле, что я Ему всецело предан и всё Ему посвящаю — и мысли, и чувства, и дела, и слова и внешнее мое всё, как и внутреннее,— ничего для себя не загадываю, всё для Него — так что меня будто нет, а есть только Он во мне, и угождать Ему единственная моя забота; но и самим делом, существенно, Он во мне».
Так у великого Апостола. Но бывает ли это с заурядными христианами, не призванными к великому служению учительскому?
…Да даст вам (Отец Господа Иисуса Христа) по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши… (Еф. 3, 16-17),— вот пожелание Апостольское христианам Ефеса.
Так много всего...Что же выбрать...
Всё читать надо!Нюся пишет:Так много всего...Что же выбрать...
Не надо всё читать! Голова скрутится!noname пишет:
Всё читать надо!
Не скрутится. Я всё прочитал, у меня же не скрутилась.Нюся пишет:
Не надо всё читать! Голова скрутится!
И какой вывод сделал по жизни?noname пишет:
Не скрутится. Я всё прочитал, у меня же не скрутилась.
Мистика - это круто.Нюся пишет:И какой вывод сделал по жизни?
Преосвященный Феофан сопоставляет с этим пожеланием Апостола обетование Самого Господа и приводит слова Господни: «Кто имеет заповеди Мои, и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюся ему Сам. (Ин. 14, 21)…Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (-23). Когда вкоренится в вас любовь, тогда проявится в вас полнота вселения Христова,— Он исполнит вас, как огонь преисполняет железо. И все узрим живущего в вас Христа.— Этого желаю вам; об этом, преклоняя колена, молюсь к Отцу Небесному».— Так излагает мысль Св. Апостола Павла еп. Феофан.
Он же в своем толковании на 1Кор, 1, 20, говоря о слове крестном, замечает:
«Спасительности его отвергать нельзя, ибо опыты этого у всех перед глазами: слышат слово крестное, веруют, принимают крещение и являются новой тварью; новыми себя ощущают, новыми видят их другие…»
Говоря далее о принявших проповедь о кресте, еп. Феофан поясняет их душевное состояние:
«Подлинно они удостоверялись в сей силе и премудрости, когда в крещении спогребались распятому Господу и вкушали спасительность креста».
И далее:
«Блага сии уготованы любящим Бога, т. е., тем, которые, оставя всё, к Богу прилепляются сердцем, и в сердечное живое общение и единение с Ним входят путем, от Него указанным и предписанным». «Посему-то внушается нам: взыщите Господа, взыщите лица Его всегда (Пс. 26, 8 и 104, 4). Пророк Моисей поставляет зрение лица Божия краем своих желаний и после того уже, как Бог явил через него и в нем столько чрезвычайных действий Своей благости и всемогущества: если обрел благодать пред Тобою, яви мне Тебя Самого, да разумно вижу Тебя (Исх. 33, 13), молился он.— С каким страхом взывал ко Господу Пророк Давид: не отвергни меня от лица Твоего (Пс. 4, 13), зная, что удаляющие себя от Него погибнут (Пс. 77, 27). С каким желанием устремлялся он всегда к Богу: возжаждала душа моя к Богу (Пс. 62, 2); как стремится олень на водные источники, также желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 11, 2). С какою теплотою упокоивался в Нем едином: Мне же прилепляться Богу благо есть (Пс. 72, 28)».
«Но не в этом одном устремлении всех желаний к Богу — наше благо,— продолжает преосвященный,— Жажда без утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения есть скорбь, болезнь, мучение. Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обладать Им и быть обладаемыми от Него, преискренно приобщиться Его, быть в Нём и Его иметь в себе. В этом-то живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом и есть его последняя цель. Таким это общение изображается в слове Божием. Так Сам Бог об одних говорит: не может Дух Мой пребывать в этих человеках, потому что они плоть (Быт. 6, 3), а другим обещает: вселюсь в них и буду ходить в них (2 Кор. 6, 16). »Внимай,— говорит на это место Св. Златоуст,— кто обитает в тебе! Ты Бога носишь в себе ». Св. Иоанн Богослов учит, что, когда кто пребывает в любви, то не только он пребывает в Боге, но и Бог в нём пребывает (1Ин. 4, 16).— Это живое общение с Богом доводится у Св. Отцов до обожения человеков. Так Св. Григорий Богослов изображает человека »живым существом, чрез стремление к Богу достигающим обожения». У св. Макария почти в каждой беседе можно находить напоминание о живом общении души с Богом. Так в 46-ой беседе он учит, что Бог сотворил душу человека такою, чтобы быть ей невестою и сообщницей Его, и чтобы Ему быть с нею единым растворением и единым духом. »Для человека нужно,— говорит он в другом месте,— чтобы не только сам он был в Боге, но и Бог был в нём»».
«Но не подумал бы кто, что, когда Богообщение поставляется последнею целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих». «Нет,— решительно заявляет автор »Писем о христианской жизни»,— оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, т. е., говорит в сердце своем Богу: Господь мой и Бог мой (Ин. 20, 28), как апостол Фома, и к себе: я Господень, я Господень (Ис. 44, 5)— такое состояние есть единое истинное состояние человека, есть единый, решительный признак присутствия в нем начала ветви истинно-нравственной и духовной жизни».
--------------------------------------------------------------------------------
Чтобы не заслужить упрека в подборе свидетелей одного какого–либо типа и этим не ослабить силы свидетельств, я, нарочно, собрал воззрения на данный предмет и отцов-общественных деятелей, и наставников монашеских общежитий, и созерцателей-пустынников, и современных людей разного пола, возраста, образования и общественного положения. Утверждения всех этих разнородных лиц (которым все они придают существенное значение), находясь в полном согласии одно с другим, в таком же согласии находятся, как показано, и со свидетельством Слова Божия.
Все эти люди свидетельствуют, говоря вообще, о религиозном опыте, как необходимом, существенном признаке истинно духовной жизни — в начале, средине и конце её. Все они сходятся в этом друг с другом, различаясь лишь глубиною и широтою личного опыта, при чем одни из них оставили нам лишь отрывочные свидетельства о своей жизни во Христе, другие, наиболее одухотворенные, изложили свой внутренний опыт восхождения к Богу в цельной системе, преподали нам не только метод Богопознания, но и теорию познания вообще (Св. Исаак Сирин).(8)
Наше школьное богословие, на почве которого ведется и борьба с противниками Церкви, чуждое религиозного опыта, не только никого не одухотворяет и не возводит к Богу, а убивает и те живые начатки религиозной жизни, которые воспринимаются в благочестивой семье и храме. Отвращение или недоверие, которое вызывает к себе богословие во многих питомцах наших духовных (а иногда и светских) учебных заведений,— едва ли для кого тайна. Равнодушие к вере или отрицание её — вот достояние наше.
Посмотрите: кто руководит умом и пробужденной совестью сознательного русского человека? Литература, философия, наука, — только не богословие, которое в своем крайнем схематизме решительно не видит живой души человеческой с ея запросами, муками, сомнениями. Оно не берет человека с его наличными духовными требованиями и не возводит его, осторожно и проникновенно пестунствуя на высшую ступень самосознания и самочувствия. Эту роль взяла на себя литература светская, к несчастию не всегда стоящая в согласии с христианскими идеалами.
Кто и в чисто религиозной сфере мысли имеет у нас добрый успех? Владимир Соловьев, Хомяков, Самарин, Киреевский, Несмелов, т. е., люди, особенно чуждые приемов школьного богословствования.
Чем привлекают к себе и такие духовные писатели (имеющие впрочем значение больше для тех, кто уже не далек от церкви, и еще более для живущих в ней), как еп. Феофан, еп. Антоний Уфимский, о. Иоанн Сергиев(9) (имею в виду его книгу »Моя жизнь во Христе»)? Да тем, что отреклись они от стереотипного, мертвого и мертвящего, формально-диалектического метода мышления и пошли по новому пути богословской мысли, пути, который, кажется, лучше всего назвать »психологическим».
Обрушиваясь на рационализм наших протестантских сект, мы сами в сущности стоим на почве того же рационализма, что и наши противники. Мы с ревностью, достойной лучшей участи, храним догматическую скорлупу, настолько закалив или, вернее, заморозив её холодом научной рассудочности, что ищущим питательного зерна Христова, доступ к нему оказывается решительно прегражденным. Вместо запрятанного нами зерна мы предлагаем скорлупу, необходимую правда для роста и здоровья зерна, характерную для него, но саму по себе вовсе не утоляющую голода и не возбуждающую ни малейшего духовного аппетита.(10)
Я невольно вспоминаю, какое чувство вызывали во мне школьные руководства, когда я, сознательно придя к церкви и прожив некоторое время в недрах её, решил заглянуть в учебники и академические лекции. Я чувствовал, что чтение это умаляет моё религиозно-нравственное достояние. Это наблюдение даже смутило меня, но по счастью одно авторитетное духовное лицо успокоило мою смятенную душу…
Какие же положительные выводы можно и должно сделать. стоя на почве »опытного Богопознания?»
Первое, чрезвычайно важное и существенно необходимое следствие пользования указанным методом — собственное душеспасение каждого из нас. Разве не громадной, единственной, можно сказать, важности дело — опытно познать то, что принималось раньше по вере слуха? Разве не великое благо собственными очами узреть ту страну, в которую предлежит нам переселиться по оставлении храмины тела, если, конечно, Царь той страны примет нас к Себе? Разве не безмерное счастье видеть, слышать, осязать Того, общение с Кем должно служить источником нескончаемого блаженства? Разве не великая радость достичь непостыждающей надежды, которая держится не на легкомысленном »авось», а на глубоком приобщении к Самому Источнику спасения?
Второе следствие то, что и ближних наших мы сможем, призывать в чудный свет животворящей и обновляющей, в Боге сокровенной, но верным рабам Христовым ощутительно открывающейся истины, а не к сухим и малопонятным. (без указанного опыта) умозрениям, не к голой морали или богослужебной эстетике.
Стоя на указанном пути мы, естественно, с большим разумением, проникновением, смирением и кротостью будем относиться и к противникам нашим.
Если легко произнести суд над другим, с точки зрения правоверия, то гораздо труднее сделать это с точки зрения православия. Если при первом легко поддаваться мусульманскому фанатизму, то при втором не трудно с сокрушением взирать на себя и с кротостью относиться к другому.
Конечно, легче на основании отвлеченных формул определить степень виновности подсудимого, чем вдунуть в него дыхание жизни Христовой. Но значит ли это, что нужно и позволительно первое предпочитать второму?
Ведь в сущности, всеми противниками Церкви владеет тот или иной дух. И противопоставлять ему можно дух же, а не слово. Каждый из нас знает по собственному опыту, как бездейственно чужое слово, если оно дисгармонирует с нашим настроением, не будучи само полно сильнейшего настроения. Оно, как пробка из воды, выталкивается этим настроением. Чтобы победить несогласного, нужно заразить его известным самочувствием. Если нет последнего, тщетно слово…
Я, например, читал одному пашковцу из творений Св. Симеона Нового Богослова, и он приходил в изумление и умиление от слов этого богоносного мужа…
Один врач, бывший революционер, говорил мне, что «когда он думал, что уже нет нигде новых источников жизни, случайно прочитанная им фраза Исаака Сирина приковала к себе его ум своей глубиной, а сердце своей силой». Св. Исаак показал ему, по его словам, »реальность бытия иного мира». Вот он — дух истинного миссионера-отшельника, из пустыни VI века пробивающего брешь в сердце современного интеллигента!
Та же черта опытного Богопознания в писаниях святоотеческих поразила Киреевского, который так выразился в одной из своих статей: «Свв. Отцы говорят о стране, в которой были».
Ища для себя в Церкви прежде всего правильного устроения души по Богу, истинного обновления и возрождения, действительного приобщения Самому Христу Господу, мы встанем в более правильные отношения, разумнее, глубже, проникновеннее отнесемся и к людям чуждым христианства, и, тем более, к исповедующим Христа, пришедшего во плоти, но не согласным с нами в путях следования Ему.
Ведь собственно, каждое христианское общество ставит главной своей задачей — наилучшее устроение души человеческой, т. е., наиболее согласное с волей Божией. Следовательно, существенная сторона задачи есть нечто сокровенное, не поддающееся никаким рассудочным определениям, ускользающее от них, как ускользает чувство из рамок холодной формулы.
Стоя на почве психологической, т. е., на почве православного(11) религиозного опыта, мы достигнем двоякой цели и оградим себя от двоякой неправды — по отношению к себе и относительно других.
Себя мы неизбежно должны будем тщательно испытывать и истязательно вопрошать: «в вере ли мы (2Кор. 12, 15)? Точно ли прославляется Господь в душах и в телах наших (1Кор. 6, 20)?» Должны будем заботливо простираться вперед, забывая задняя (Фил. 3, 13), дабы не утратить живого критерия истины, который хранить и изощрять можно только путем трезвенной жизни и непрестанного внимания себе.
К своим собеседникам или противникам мы необходимо должны будем проявлять особенное внимание, терпение, проникновение, чтобы определить степень их реального приобщения Истине, т. е. жизни Христовой.
Конечно, повторяю, легче, а потому и соблазнительнее устраивать для несогласных Прокрустово ложе и, прилагая к ним мерку внешних догматических определений, одних растягивать, а других укорачивать, легче, чем, вникая в их действительное религиозно-нравственное содержание, исправлять ложное и восполнять недостающее. Легче, но какой плод приносит собою этот легкий путь?!
Измена наша истинному пути Богопознания имеет своим следствием то, что, с одной стороны, мы не способны бываем видеть положительного и ценного достояния одних наших противников (напр. католиков и отчасти протестантов),с другой—мы нередко вступаем в борьбу с другими недругами нашими, стоя с ними на различной почве, и потому обрекаемся на взаимное непонимание. Если в первом случае, когда мы, например, упускаем из вида в католичестве положительные типы святости, мы совершаем вредную несправедливость, то во втором, как например, в отношении к Толстому, неверующим людям науки и некоторым сектантам, мы впадаем в не менее вредную нелепость, подобную измерению кубического тела плоскостью.
Например, ведется с Толстым спор на почве догмата, вне всякой связи этого последнего с нравственностью, когда для Толстого суть христианства в морали.
Или: неверующему эмпирику предлагается догматическая система, отрешенная от всякой мысли об опыте.
Или: хлысту, всем существом своим утверждающему свое равенство со Христом или Богородицей, живо (хотя и иллюзорно) чувствующему это равенство, холодно разъясняется правовое учение о втором лице Св. Троицы и о лице Богоматери.
Вместе с утратой истинного пути к Богу (в науке и жизни) риза Христова стала раздираться. Но Господь, хранящий Церковь Свою и из злого выводящий благое, самое раздирание обращает в укрепление. И толстовство, и пашковщина, и всякое иное сектантство, философский и экономический материализм, и многое другое являются печальным, но неизбежным коррективом современного христианства, частнее сказать — православия. И мы — православные обязаны, вдумавшись в эти явления, принять их к сведению, как урок и как упрек себе.
Нечего скрывать, что Толстой, например, всколыхнул стоячую воду нашей богословской мысли, заставил, встрепенуться тех, кто спокойно почивал на подушке, набитой папирусными фрагментами и археологическими малонужностями. Он явился могучим протестом, как против крайностей учредительных увлечений 60-х годов, так и против мертвенности ученого догматизма и безжизненности церковного формализма. И спаси, и просвети его Бог за это! — Как ни однобоко(12) почти всё, что вещал нам Толстой, но оно, это однобокое, было нужно, так как мы — православные забыли эту, подчеркнутую им, сторону Христова учения, или, по крайней мере, лениво к ней относились. Призыв Толстого к целомудрию (тоже, правда, однобокому), воздержанию, простоте жизни, служению простому народу и к »жизни по вере» вообще — был весьма своевременным и действительным.
И мы должны, отвергнув всё неправое в его писаниях, принять к сведению и, главное, к исполнению то доброе, что он выдвигал в Евангелии в укор нам, а вместе с тем, должны показать, что истинное разумение, а тем более достижение нравственного идеала Евангелия возможно только при условии правой веры, т. е., в Церкви.
Сектантам с их исканием живого Христа и естественным протестом против крайностей обряда, за которым они проглядели,— не без нашей опять таки вины,— истинное сокровище Церкви, мы должны отвечать не отрицанием законности этого искания, якобы только плода гордости и повода к прелести(13), а указанием бе зобманного пути, на котором обретается подлинный живой Христос, обещавший сотворить Себе обитель в любовно преданном Ему сердце (Ин. 14, 23).
Всем им, ищущим живой веры и благой жизни, мы должны отвечать тем, в чем искренние искатели того и другого нашли бы осуществление своих законных стремлений.
Безрелигиозным радетелям о материальном благосостоянии труждающихся и обремененных телесно мы должны ответить не обвинением их в »социализме», а, не прибегая к подобным »жупелам»(14), противопоставить их предприятиям образование христианской общественности и истинно христианскую, не конечную, а определяемую мерою нужды благотворительность, как это и было в первоначальном христианском обществе, когда у верующих было одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32). Мы теперь подозрительно смотрим и на попытки сектантов устроиться экономически на началах, чуждых нашему языческому строю жизни, забывая, что в пример нам передано в Деяниях Апостолов, что из верующих никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее (Деян. 4, 32). А возможно это было потому, что все они — верующие имели общего Христа Господа подлинно живущим в сердцах своих.
Суровым, часто, может быть, несправедливо-придирчивым, но благожелательным обличителям нашего государственного порядка мы должны ответить не злобным упреком в неблагонамеренности, а искреннею ревностью о водворении у нас действительно христианского политического строя жизни, что возможно лишь при условии, если государственные деятели, большие и малые, будут не только в личной жизни, но и в своем государственном служении »ходить пред Богом», носить Христа в сердце своем, действовать во имя Его… Если пошлет Господь таких делателей на ниву нашей государственной жизни, что свершится, конечно, не без нашей сердечной (а не показной и заказной) молитвы (Лк. 10, 2) и не без нашего добросовестного содействия, то действительно только завистливая, преступная Корео-Дафано-Авироновская неблагонамеренность осмелится поднять голос против вождей народа Божия.
Людям внешнего знания мы должны ответить не противопоставлением пятичувственному опыту веры, как доверия к внешнему авторитету, а указанием на возможность иного опытного знания, вводящего человека в иной реальнейший мир бытия, при условии следования методу, выработанному и хранимому во Вселенском училище, Ипостасною Премудростью основанном: в недрах этого нового мира предлежит человеку почерпнуть новое ведение и относительно этой текущей и преходящей, но столь любезной ему действительности…
Он же в своем толковании на 1Кор, 1, 20, говоря о слове крестном, замечает:
«Спасительности его отвергать нельзя, ибо опыты этого у всех перед глазами: слышат слово крестное, веруют, принимают крещение и являются новой тварью; новыми себя ощущают, новыми видят их другие…»
Говоря далее о принявших проповедь о кресте, еп. Феофан поясняет их душевное состояние:
«Подлинно они удостоверялись в сей силе и премудрости, когда в крещении спогребались распятому Господу и вкушали спасительность креста».
И далее:
«Блага сии уготованы любящим Бога, т. е., тем, которые, оставя всё, к Богу прилепляются сердцем, и в сердечное живое общение и единение с Ним входят путем, от Него указанным и предписанным». «Посему-то внушается нам: взыщите Господа, взыщите лица Его всегда (Пс. 26, 8 и 104, 4). Пророк Моисей поставляет зрение лица Божия краем своих желаний и после того уже, как Бог явил через него и в нем столько чрезвычайных действий Своей благости и всемогущества: если обрел благодать пред Тобою, яви мне Тебя Самого, да разумно вижу Тебя (Исх. 33, 13), молился он.— С каким страхом взывал ко Господу Пророк Давид: не отвергни меня от лица Твоего (Пс. 4, 13), зная, что удаляющие себя от Него погибнут (Пс. 77, 27). С каким желанием устремлялся он всегда к Богу: возжаждала душа моя к Богу (Пс. 62, 2); как стремится олень на водные источники, также желает душа моя к Тебе, Боже (Пс. 11, 2). С какою теплотою упокоивался в Нем едином: Мне же прилепляться Богу благо есть (Пс. 72, 28)».
«Но не в этом одном устремлении всех желаний к Богу — наше благо,— продолжает преосвященный,— Жажда без утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения есть скорбь, болезнь, мучение. Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обладать Им и быть обладаемыми от Него, преискренно приобщиться Его, быть в Нём и Его иметь в себе. В этом-то живом, внутреннем, непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом и есть его последняя цель. Таким это общение изображается в слове Божием. Так Сам Бог об одних говорит: не может Дух Мой пребывать в этих человеках, потому что они плоть (Быт. 6, 3), а другим обещает: вселюсь в них и буду ходить в них (2 Кор. 6, 16). »Внимай,— говорит на это место Св. Златоуст,— кто обитает в тебе! Ты Бога носишь в себе ». Св. Иоанн Богослов учит, что, когда кто пребывает в любви, то не только он пребывает в Боге, но и Бог в нём пребывает (1Ин. 4, 16).— Это живое общение с Богом доводится у Св. Отцов до обожения человеков. Так Св. Григорий Богослов изображает человека »живым существом, чрез стремление к Богу достигающим обожения». У св. Макария почти в каждой беседе можно находить напоминание о живом общении души с Богом. Так в 46-ой беседе он учит, что Бог сотворил душу человека такою, чтобы быть ей невестою и сообщницей Его, и чтобы Ему быть с нею единым растворением и единым духом. »Для человека нужно,— говорит он в другом месте,— чтобы не только сам он был в Боге, но и Бог был в нём»».
«Но не подумал бы кто, что, когда Богообщение поставляется последнею целью человека, то человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих». «Нет,— решительно заявляет автор »Писем о христианской жизни»,— оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека, так что, коль скоро нет общения с Богом, коль скоро оно не ощущается, человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения. Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный есть его Бог, и сам он есть Божий, т. е., говорит в сердце своем Богу: Господь мой и Бог мой (Ин. 20, 28), как апостол Фома, и к себе: я Господень, я Господень (Ис. 44, 5)— такое состояние есть единое истинное состояние человека, есть единый, решительный признак присутствия в нем начала ветви истинно-нравственной и духовной жизни».
--------------------------------------------------------------------------------
Чтобы не заслужить упрека в подборе свидетелей одного какого–либо типа и этим не ослабить силы свидетельств, я, нарочно, собрал воззрения на данный предмет и отцов-общественных деятелей, и наставников монашеских общежитий, и созерцателей-пустынников, и современных людей разного пола, возраста, образования и общественного положения. Утверждения всех этих разнородных лиц (которым все они придают существенное значение), находясь в полном согласии одно с другим, в таком же согласии находятся, как показано, и со свидетельством Слова Божия.
Все эти люди свидетельствуют, говоря вообще, о религиозном опыте, как необходимом, существенном признаке истинно духовной жизни — в начале, средине и конце её. Все они сходятся в этом друг с другом, различаясь лишь глубиною и широтою личного опыта, при чем одни из них оставили нам лишь отрывочные свидетельства о своей жизни во Христе, другие, наиболее одухотворенные, изложили свой внутренний опыт восхождения к Богу в цельной системе, преподали нам не только метод Богопознания, но и теорию познания вообще (Св. Исаак Сирин).(8)
Наше школьное богословие, на почве которого ведется и борьба с противниками Церкви, чуждое религиозного опыта, не только никого не одухотворяет и не возводит к Богу, а убивает и те живые начатки религиозной жизни, которые воспринимаются в благочестивой семье и храме. Отвращение или недоверие, которое вызывает к себе богословие во многих питомцах наших духовных (а иногда и светских) учебных заведений,— едва ли для кого тайна. Равнодушие к вере или отрицание её — вот достояние наше.
Посмотрите: кто руководит умом и пробужденной совестью сознательного русского человека? Литература, философия, наука, — только не богословие, которое в своем крайнем схематизме решительно не видит живой души человеческой с ея запросами, муками, сомнениями. Оно не берет человека с его наличными духовными требованиями и не возводит его, осторожно и проникновенно пестунствуя на высшую ступень самосознания и самочувствия. Эту роль взяла на себя литература светская, к несчастию не всегда стоящая в согласии с христианскими идеалами.
Кто и в чисто религиозной сфере мысли имеет у нас добрый успех? Владимир Соловьев, Хомяков, Самарин, Киреевский, Несмелов, т. е., люди, особенно чуждые приемов школьного богословствования.
Чем привлекают к себе и такие духовные писатели (имеющие впрочем значение больше для тех, кто уже не далек от церкви, и еще более для живущих в ней), как еп. Феофан, еп. Антоний Уфимский, о. Иоанн Сергиев(9) (имею в виду его книгу »Моя жизнь во Христе»)? Да тем, что отреклись они от стереотипного, мертвого и мертвящего, формально-диалектического метода мышления и пошли по новому пути богословской мысли, пути, который, кажется, лучше всего назвать »психологическим».
Обрушиваясь на рационализм наших протестантских сект, мы сами в сущности стоим на почве того же рационализма, что и наши противники. Мы с ревностью, достойной лучшей участи, храним догматическую скорлупу, настолько закалив или, вернее, заморозив её холодом научной рассудочности, что ищущим питательного зерна Христова, доступ к нему оказывается решительно прегражденным. Вместо запрятанного нами зерна мы предлагаем скорлупу, необходимую правда для роста и здоровья зерна, характерную для него, но саму по себе вовсе не утоляющую голода и не возбуждающую ни малейшего духовного аппетита.(10)
Я невольно вспоминаю, какое чувство вызывали во мне школьные руководства, когда я, сознательно придя к церкви и прожив некоторое время в недрах её, решил заглянуть в учебники и академические лекции. Я чувствовал, что чтение это умаляет моё религиозно-нравственное достояние. Это наблюдение даже смутило меня, но по счастью одно авторитетное духовное лицо успокоило мою смятенную душу…
Какие же положительные выводы можно и должно сделать. стоя на почве »опытного Богопознания?»
Первое, чрезвычайно важное и существенно необходимое следствие пользования указанным методом — собственное душеспасение каждого из нас. Разве не громадной, единственной, можно сказать, важности дело — опытно познать то, что принималось раньше по вере слуха? Разве не великое благо собственными очами узреть ту страну, в которую предлежит нам переселиться по оставлении храмины тела, если, конечно, Царь той страны примет нас к Себе? Разве не безмерное счастье видеть, слышать, осязать Того, общение с Кем должно служить источником нескончаемого блаженства? Разве не великая радость достичь непостыждающей надежды, которая держится не на легкомысленном »авось», а на глубоком приобщении к Самому Источнику спасения?
Второе следствие то, что и ближних наших мы сможем, призывать в чудный свет животворящей и обновляющей, в Боге сокровенной, но верным рабам Христовым ощутительно открывающейся истины, а не к сухим и малопонятным. (без указанного опыта) умозрениям, не к голой морали или богослужебной эстетике.
Стоя на указанном пути мы, естественно, с большим разумением, проникновением, смирением и кротостью будем относиться и к противникам нашим.
Если легко произнести суд над другим, с точки зрения правоверия, то гораздо труднее сделать это с точки зрения православия. Если при первом легко поддаваться мусульманскому фанатизму, то при втором не трудно с сокрушением взирать на себя и с кротостью относиться к другому.
Конечно, легче на основании отвлеченных формул определить степень виновности подсудимого, чем вдунуть в него дыхание жизни Христовой. Но значит ли это, что нужно и позволительно первое предпочитать второму?
Ведь в сущности, всеми противниками Церкви владеет тот или иной дух. И противопоставлять ему можно дух же, а не слово. Каждый из нас знает по собственному опыту, как бездейственно чужое слово, если оно дисгармонирует с нашим настроением, не будучи само полно сильнейшего настроения. Оно, как пробка из воды, выталкивается этим настроением. Чтобы победить несогласного, нужно заразить его известным самочувствием. Если нет последнего, тщетно слово…
Я, например, читал одному пашковцу из творений Св. Симеона Нового Богослова, и он приходил в изумление и умиление от слов этого богоносного мужа…
Один врач, бывший революционер, говорил мне, что «когда он думал, что уже нет нигде новых источников жизни, случайно прочитанная им фраза Исаака Сирина приковала к себе его ум своей глубиной, а сердце своей силой». Св. Исаак показал ему, по его словам, »реальность бытия иного мира». Вот он — дух истинного миссионера-отшельника, из пустыни VI века пробивающего брешь в сердце современного интеллигента!
Та же черта опытного Богопознания в писаниях святоотеческих поразила Киреевского, который так выразился в одной из своих статей: «Свв. Отцы говорят о стране, в которой были».
Ища для себя в Церкви прежде всего правильного устроения души по Богу, истинного обновления и возрождения, действительного приобщения Самому Христу Господу, мы встанем в более правильные отношения, разумнее, глубже, проникновеннее отнесемся и к людям чуждым христианства, и, тем более, к исповедующим Христа, пришедшего во плоти, но не согласным с нами в путях следования Ему.
Ведь собственно, каждое христианское общество ставит главной своей задачей — наилучшее устроение души человеческой, т. е., наиболее согласное с волей Божией. Следовательно, существенная сторона задачи есть нечто сокровенное, не поддающееся никаким рассудочным определениям, ускользающее от них, как ускользает чувство из рамок холодной формулы.
Стоя на почве психологической, т. е., на почве православного(11) религиозного опыта, мы достигнем двоякой цели и оградим себя от двоякой неправды — по отношению к себе и относительно других.
Себя мы неизбежно должны будем тщательно испытывать и истязательно вопрошать: «в вере ли мы (2Кор. 12, 15)? Точно ли прославляется Господь в душах и в телах наших (1Кор. 6, 20)?» Должны будем заботливо простираться вперед, забывая задняя (Фил. 3, 13), дабы не утратить живого критерия истины, который хранить и изощрять можно только путем трезвенной жизни и непрестанного внимания себе.
К своим собеседникам или противникам мы необходимо должны будем проявлять особенное внимание, терпение, проникновение, чтобы определить степень их реального приобщения Истине, т. е. жизни Христовой.
Конечно, повторяю, легче, а потому и соблазнительнее устраивать для несогласных Прокрустово ложе и, прилагая к ним мерку внешних догматических определений, одних растягивать, а других укорачивать, легче, чем, вникая в их действительное религиозно-нравственное содержание, исправлять ложное и восполнять недостающее. Легче, но какой плод приносит собою этот легкий путь?!
Измена наша истинному пути Богопознания имеет своим следствием то, что, с одной стороны, мы не способны бываем видеть положительного и ценного достояния одних наших противников (напр. католиков и отчасти протестантов),с другой—мы нередко вступаем в борьбу с другими недругами нашими, стоя с ними на различной почве, и потому обрекаемся на взаимное непонимание. Если в первом случае, когда мы, например, упускаем из вида в католичестве положительные типы святости, мы совершаем вредную несправедливость, то во втором, как например, в отношении к Толстому, неверующим людям науки и некоторым сектантам, мы впадаем в не менее вредную нелепость, подобную измерению кубического тела плоскостью.
Например, ведется с Толстым спор на почве догмата, вне всякой связи этого последнего с нравственностью, когда для Толстого суть христианства в морали.
Или: неверующему эмпирику предлагается догматическая система, отрешенная от всякой мысли об опыте.
Или: хлысту, всем существом своим утверждающему свое равенство со Христом или Богородицей, живо (хотя и иллюзорно) чувствующему это равенство, холодно разъясняется правовое учение о втором лице Св. Троицы и о лице Богоматери.
Вместе с утратой истинного пути к Богу (в науке и жизни) риза Христова стала раздираться. Но Господь, хранящий Церковь Свою и из злого выводящий благое, самое раздирание обращает в укрепление. И толстовство, и пашковщина, и всякое иное сектантство, философский и экономический материализм, и многое другое являются печальным, но неизбежным коррективом современного христианства, частнее сказать — православия. И мы — православные обязаны, вдумавшись в эти явления, принять их к сведению, как урок и как упрек себе.
Нечего скрывать, что Толстой, например, всколыхнул стоячую воду нашей богословской мысли, заставил, встрепенуться тех, кто спокойно почивал на подушке, набитой папирусными фрагментами и археологическими малонужностями. Он явился могучим протестом, как против крайностей учредительных увлечений 60-х годов, так и против мертвенности ученого догматизма и безжизненности церковного формализма. И спаси, и просвети его Бог за это! — Как ни однобоко(12) почти всё, что вещал нам Толстой, но оно, это однобокое, было нужно, так как мы — православные забыли эту, подчеркнутую им, сторону Христова учения, или, по крайней мере, лениво к ней относились. Призыв Толстого к целомудрию (тоже, правда, однобокому), воздержанию, простоте жизни, служению простому народу и к »жизни по вере» вообще — был весьма своевременным и действительным.
И мы должны, отвергнув всё неправое в его писаниях, принять к сведению и, главное, к исполнению то доброе, что он выдвигал в Евангелии в укор нам, а вместе с тем, должны показать, что истинное разумение, а тем более достижение нравственного идеала Евангелия возможно только при условии правой веры, т. е., в Церкви.
Сектантам с их исканием живого Христа и естественным протестом против крайностей обряда, за которым они проглядели,— не без нашей опять таки вины,— истинное сокровище Церкви, мы должны отвечать не отрицанием законности этого искания, якобы только плода гордости и повода к прелести(13), а указанием бе зобманного пути, на котором обретается подлинный живой Христос, обещавший сотворить Себе обитель в любовно преданном Ему сердце (Ин. 14, 23).
Всем им, ищущим живой веры и благой жизни, мы должны отвечать тем, в чем искренние искатели того и другого нашли бы осуществление своих законных стремлений.
Безрелигиозным радетелям о материальном благосостоянии труждающихся и обремененных телесно мы должны ответить не обвинением их в »социализме», а, не прибегая к подобным »жупелам»(14), противопоставить их предприятиям образование христианской общественности и истинно христианскую, не конечную, а определяемую мерою нужды благотворительность, как это и было в первоначальном христианском обществе, когда у верующих было одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32). Мы теперь подозрительно смотрим и на попытки сектантов устроиться экономически на началах, чуждых нашему языческому строю жизни, забывая, что в пример нам передано в Деяниях Апостолов, что из верующих никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее (Деян. 4, 32). А возможно это было потому, что все они — верующие имели общего Христа Господа подлинно живущим в сердцах своих.
Суровым, часто, может быть, несправедливо-придирчивым, но благожелательным обличителям нашего государственного порядка мы должны ответить не злобным упреком в неблагонамеренности, а искреннею ревностью о водворении у нас действительно христианского политического строя жизни, что возможно лишь при условии, если государственные деятели, большие и малые, будут не только в личной жизни, но и в своем государственном служении »ходить пред Богом», носить Христа в сердце своем, действовать во имя Его… Если пошлет Господь таких делателей на ниву нашей государственной жизни, что свершится, конечно, не без нашей сердечной (а не показной и заказной) молитвы (Лк. 10, 2) и не без нашего добросовестного содействия, то действительно только завистливая, преступная Корео-Дафано-Авироновская неблагонамеренность осмелится поднять голос против вождей народа Божия.
Людям внешнего знания мы должны ответить не противопоставлением пятичувственному опыту веры, как доверия к внешнему авторитету, а указанием на возможность иного опытного знания, вводящего человека в иной реальнейший мир бытия, при условии следования методу, выработанному и хранимому во Вселенском училище, Ипостасною Премудростью основанном: в недрах этого нового мира предлежит человеку почерпнуть новое ведение и относительно этой текущей и преходящей, но столь любезной ему действительности…
И в самом деле, ведь если все многочисленные ученики и воспитанники названного училища, упомянутые нами и не упомянутые, прославленные Богом и не прославленные, правы в своем единодушном утверждении, что в воскресение Христово мы не только верим от слышания, но можем зреть его собственными очами(15), иначе сказать, что воскресение Христово есть опытно дознаваемая истина, то тогда, значит, единственный по важности исторический факт, оспариваемый, однако, лженаучной критикой, оказывается опытно удостоверенным.
Примечательно, что необычайности события соответствует необычайность метода исследования. Обыкновенно явление, о котором говорит верующая молва, проверяется свидетельством очевидцев и современников, психологический факт ищет себе подтверждения во внешнем удостоверении, в свидетельском показании; в данном единственном случае историческое свидетельство, оспариваемое рационализмом, опирающимся на контр-свидетельства, подтверждается не сильнейшими современными свидетельствами и не (одними) соображениями исторического прагматизма, а психологией лица,— и какого лица?! Не чудесное ли дело: простолюдина, почти младенца, еле умеющего отличить правую руку от левой! Ибо то, о чем свидетельствует разнородный сонм святых Божиих, может быть достоянием всякого простеца. (Вспомним Св. Павла. ученика Св. Антония Великого). Где, как не тут, в этом центральном пункте христианства, воскресении Христовом, посрамлена мудрость книжников и совопросников всех веков?!
Если же мы удостоверительно знаем, что Христос воскрес, то отсюда следует не только то, что вера наша не тщетна, и мы можем выйти из-под власти греха (1Кор. 15, 17) в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21), но и то, что сокровищница всякой премудрости и ведения открыта перед нами (Кол. 2, 3).
Ведь если Христос воскрес, то весь клубок истин Писания раскатывается сам собой. Недаром такой талантливый и ученый противник Христа, как Штраус, полагал, что оставить не опровергнутым факт воскресения, эту твердыню христианства, значит оставить все здание его. Не без разума другой талант, антихрист в жизни и исповедник Христа в слове, Наполеон говорил генералу Бертрану, что с признанием воскресения Христа, т. е., Его Богочеловечества, христианство является математически стройной, несокрушимой системой.
Итак, если Христос воскрес, и следовательно, Св. Писание истинно, то историку уже нельзя верить в бесконечный прогресс на земле; экономисту — считать желудок основным двигателем (исторической) жизни, а производительность земли — независимой от религиозно-нравственного состояния человека; зоологу нельзя признавать неизменной нормой борьбу за существование; астроному — видеть в движении планетной системы бездушную механическую силу, управляемую слепым роком; физику — утверждать всеобщность закона тяготения, не выпускающего из-под своей железной руки и свободно-разумного существа человека; моралисту нельзя строить правила поведения человека на основании выводов, сделанных из наблюдений над животными; психологу и историку литературы нельзя обозревать движений человеческой души, смены типов и характеров вне их отношения к Солнцу Правды — Христу; философу нельзя и теорию познания, и все здание философии опирать на познавательные силы одного лишь »натурального» человека, мудрствовать по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2, 8); серьезному политику нельзя с высокомерной снисходительностью относиться к указанию на теократический строй царства Еврейского.
Изображение процесса и финала всемирной истории по указаниям Слова Божия не должно уже вызывать насмешки историка.
Молитвы о дожде, раннем и позднем, об умножении плодов земных, об избавлении от голода не должны удивлять экономиста.
Лев, послушный старцу Герасиму, и медведь, питающийся от трапезы преп. Сергия,. не должны вызывать недоверия со стороны зоолога.
Солнце, остановившееся над долиною Аиалонскою, не должно вызывать иронической улыбки на устах астронома.
Мария Египетская, переходящая реку по поверхности воды, не должна казаться существом фантастическим физику.
Отрешение сотен и тысяч людей не только от брака, но и от каких-либо чувственных влечений не должно представляться странным или невозможным моралисту и безумным психиатру.
Изучение не только »естественной», но и »возрожденной» во Христе души человеческой не должно ли входить в обязанность психолога?
Попытка оценивать писателей, этих руководителей человеческой мысли и совести, с точки зрения идеала Христова, с точки зрения пестунствования людей во Христа, не есть ли прямой долг историка литературы?
Не надлежит ли истинному »другу мудрости», минуя »сциллу» рационализма и »харибду»(16) эмпиризма, устремляться в тихие, бесконечно глубокие и необозримо широкие, текущие в жизнь вечную воды »духовного ведения»?
Возлюбленный певец и раб Иеговы, типичный царь теократического царства, не должен ли приковывать к себе внимание того, кому вручаются судьбы родного государства?
А все это, вместе взятое, должно быть очень близко уму, сердцу и совести христианского богослова, не того, конечно, богослова, который, смертельно ранив сначала себя холодным ножом бесплодного анализа, затем совершает ту же жизнеубийственную операцию над живыми душами, будто бы, просвещаемых ими собратий, а того, который, непрестанно припадая жадными устами к вечнотекущему Источнику воды живой, напояет ею и оживляет даже замирающие сердца человеческие…
Свое немощное и весьма несовершенное слово я позволю себе закончить сильным, глубоким и сладостным обращением к Господу Св. Отца нашего Исаака Сирина:
«Сподоби нас, Господи, познать и возлюбить Тебя не тем ведением, какое приобретается чрез упражнение с расточением ума, но сподоби нас того ведения, в котором ум, созерцая Тебя, прославляет естество Твое в созерцании, похищающем у мысли ощущение мира… Исполни сердца наши жизни вечной; да воссияет в них Истина Твоя, Христе, полнота истины, и да познаем, как по воле Твоей ходить путем Твоим!»
Примечательно, что необычайности события соответствует необычайность метода исследования. Обыкновенно явление, о котором говорит верующая молва, проверяется свидетельством очевидцев и современников, психологический факт ищет себе подтверждения во внешнем удостоверении, в свидетельском показании; в данном единственном случае историческое свидетельство, оспариваемое рационализмом, опирающимся на контр-свидетельства, подтверждается не сильнейшими современными свидетельствами и не (одними) соображениями исторического прагматизма, а психологией лица,— и какого лица?! Не чудесное ли дело: простолюдина, почти младенца, еле умеющего отличить правую руку от левой! Ибо то, о чем свидетельствует разнородный сонм святых Божиих, может быть достоянием всякого простеца. (Вспомним Св. Павла. ученика Св. Антония Великого). Где, как не тут, в этом центральном пункте христианства, воскресении Христовом, посрамлена мудрость книжников и совопросников всех веков?!
Если же мы удостоверительно знаем, что Христос воскрес, то отсюда следует не только то, что вера наша не тщетна, и мы можем выйти из-под власти греха (1Кор. 15, 17) в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21), но и то, что сокровищница всякой премудрости и ведения открыта перед нами (Кол. 2, 3).
Ведь если Христос воскрес, то весь клубок истин Писания раскатывается сам собой. Недаром такой талантливый и ученый противник Христа, как Штраус, полагал, что оставить не опровергнутым факт воскресения, эту твердыню христианства, значит оставить все здание его. Не без разума другой талант, антихрист в жизни и исповедник Христа в слове, Наполеон говорил генералу Бертрану, что с признанием воскресения Христа, т. е., Его Богочеловечества, христианство является математически стройной, несокрушимой системой.
Итак, если Христос воскрес, и следовательно, Св. Писание истинно, то историку уже нельзя верить в бесконечный прогресс на земле; экономисту — считать желудок основным двигателем (исторической) жизни, а производительность земли — независимой от религиозно-нравственного состояния человека; зоологу нельзя признавать неизменной нормой борьбу за существование; астроному — видеть в движении планетной системы бездушную механическую силу, управляемую слепым роком; физику — утверждать всеобщность закона тяготения, не выпускающего из-под своей железной руки и свободно-разумного существа человека; моралисту нельзя строить правила поведения человека на основании выводов, сделанных из наблюдений над животными; психологу и историку литературы нельзя обозревать движений человеческой души, смены типов и характеров вне их отношения к Солнцу Правды — Христу; философу нельзя и теорию познания, и все здание философии опирать на познавательные силы одного лишь »натурального» человека, мудрствовать по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2, 8); серьезному политику нельзя с высокомерной снисходительностью относиться к указанию на теократический строй царства Еврейского.
Изображение процесса и финала всемирной истории по указаниям Слова Божия не должно уже вызывать насмешки историка.
Молитвы о дожде, раннем и позднем, об умножении плодов земных, об избавлении от голода не должны удивлять экономиста.
Лев, послушный старцу Герасиму, и медведь, питающийся от трапезы преп. Сергия,. не должны вызывать недоверия со стороны зоолога.
Солнце, остановившееся над долиною Аиалонскою, не должно вызывать иронической улыбки на устах астронома.
Мария Египетская, переходящая реку по поверхности воды, не должна казаться существом фантастическим физику.
Отрешение сотен и тысяч людей не только от брака, но и от каких-либо чувственных влечений не должно представляться странным или невозможным моралисту и безумным психиатру.
Изучение не только »естественной», но и »возрожденной» во Христе души человеческой не должно ли входить в обязанность психолога?
Попытка оценивать писателей, этих руководителей человеческой мысли и совести, с точки зрения идеала Христова, с точки зрения пестунствования людей во Христа, не есть ли прямой долг историка литературы?
Не надлежит ли истинному »другу мудрости», минуя »сциллу» рационализма и »харибду»(16) эмпиризма, устремляться в тихие, бесконечно глубокие и необозримо широкие, текущие в жизнь вечную воды »духовного ведения»?
Возлюбленный певец и раб Иеговы, типичный царь теократического царства, не должен ли приковывать к себе внимание того, кому вручаются судьбы родного государства?
А все это, вместе взятое, должно быть очень близко уму, сердцу и совести христианского богослова, не того, конечно, богослова, который, смертельно ранив сначала себя холодным ножом бесплодного анализа, затем совершает ту же жизнеубийственную операцию над живыми душами, будто бы, просвещаемых ими собратий, а того, который, непрестанно припадая жадными устами к вечнотекущему Источнику воды живой, напояет ею и оживляет даже замирающие сердца человеческие…
Свое немощное и весьма несовершенное слово я позволю себе закончить сильным, глубоким и сладостным обращением к Господу Св. Отца нашего Исаака Сирина:
«Сподоби нас, Господи, познать и возлюбить Тебя не тем ведением, какое приобретается чрез упражнение с расточением ума, но сподоби нас того ведения, в котором ум, созерцая Тебя, прославляет естество Твое в созерцании, похищающем у мысли ощущение мира… Исполни сердца наши жизни вечной; да воссияет в них Истина Твоя, Христе, полнота истины, и да познаем, как по воле Твоей ходить путем Твоим!»
Мистикой называется внутренний (мистический) опыт, который дает нам соприкосновение с духовным, Божественным миром, а также и внутреннее (а не внешнее только) постижение нашего природного мира. Возможность мистики предполагает для себя наличие у человека особой способности непосредственного, сверхразумного и сверхчувственного, интуитивного постижения, которое мы и называем мистическим, причем его надо отличать просто от настроения, которое ограничивается заведомо субъективной областью, психологизмом. Напротив, мистический опыт имеет объективный характер, он предполагает выхождение из себя, духовное касание или встречу. Савл на пути в Дамаск имел не иллюзию или галлюцинацию, имевшую для него лишь субъективное значение, но действительное видение Христа, которое, однако, осталось недоступно его спутникам (хотя и они слышали Его голос), потому что оно открылось его внутреннему чувству, имело мистический характер. Небесных видений исполнена вся жизнь Православия, и это в нем есть самое существенное, чего, однако, не видят "спутники", которые поэтому знают его не в существе, а только в покровах, кажущихся им "окаменевшими" или мумифицированными.
Мистика есть воздух Православия, окружающий его атмосферой хотя и различной плотности, но всегда движущейся. Это наглядно чувствуется при сопоставлении: достаточно сравнить впечатление от протестантской кирки и православного "намоленного" храма, чтобы почувствовать это облако славы Божией, на него опустившееся. (Подобное чувство, хотя и в других тонах, испытывается и в старых католических, романских и готических храмах).
Жизнь в православии связана с видением миров иных, и без него она просто не существует. Богослужение, как уже указано, содержит не только воспоминание, но и реальность воспоминаемых событий. Молящийся, в меру своего духовного возраста, соучаствует в жизни Господа, Божией Матери и святых, и чрез это становится причастным вещей невидимого мира. Этот мистический реализм есть общая предпосылка всего православного богослужения, вне которой оно потеряло бы всю свою силу, – быть совершающейся мистерией боговоплощения. Поэтому православное богослужение обращается, прежде всего, к мистическому чувству, ему говорит и его воспитывает.
Основное значение при этом имеет, наряду со всеми другими таинствами и тайнодействиями, св. Евхаристия, которая есть центр православного благочестия. Принятие тела и крови Христовых и соединение в них со Христом всегда было и остается таким фактом, который является источником молитв, размышлений и, главное, особого евхаристического ведения Христа. Подобно горной вершине, оно возрастает с приближением к Нему, внешним и внутренним. В жизни святых, как об этом свидетельствуют их жития, причащение св. таин имело исключительное значение. Они и сами изменялись, просветлялись при этом (как это описывается в житии преп. Серафима). В житии преп. Сергия рассказывается, что один брат видел его в сослужении ангела, а другой видел его причащающимся огнем, который, свившись, вошел в св. чашу. Но и вообще в христианской жизни причащение св. даров есть духовное торжество, и нужно видеть во дни великого поста, когда причащается вся церковь, каким светом и умилением объяты все причастники, дающие друг другу братское лобзание. Св. причащение есть переживаемое чудо боговоплощения, оно непрестанно ставит человека пред лице Божие и дает ему встречу со Христом, потрясающую мистическим трепетом его существо. Человек становится пред высшею действительностью, и она входит в его жизнь, и чрез это он делается доступен ее воздействиям. Св. Симеон, Новый Богослов, изъясняет, что Царствие Божие, внутри нас сущее, и есть св. причащение. Православная мистика, развивающаяся в связи с св. причащением, чужда чувственности и отличается трезвенностью. Ей остается чужд культ адорации св. даров вне причащения, который развивается в католичестве, так же как и культ сердца Иисусова, сердца Богоматери, пяти ран и под. Вообще в мистике православия не только не поощряется, но всячески изгоняется воображение, которым человек старается чувственно представить и пережить духовное (черта, свойственная exercitia spiritualia Игнатия Лойолы, как и вообще католической мистике). Достаточно тех образов, которые дают церковная молитва и икона, вместе с евангельскими образами, чтобы духовно входить в силу воспоминаемых событий, большее же, что приходит от человеческого воображения, отягчено его субъективностью и, что гораздо хуже, чувственностью, а потому и не пользует нимало.
Православная мистика безобразна и таковым же является и путь к ней, т.е. как молитва, так и богомыслие, которое не должно стремиться к человеческому боговоображению, если сам Бог не возбуждает образа в человеке. Соответственно этому характеру православной мистики, в молитвенной жизни для нее главным средством является Имя Божие, призываемое в молитве. На этом значении Имени делается главное ударение подвижниками и молитвенниками, от древних отшельников Фиваиды и средневековых "исихастов" Афона до о. Иоанна Кронштадтского, в наши дни. Для всех православных христиан существует частное молитвенное правило, состоящее из псалмов и разных молитв, которое для иноков, конечно, чрезвычайно увеличивается (помимо богослужения церковного). Однако самое важное в молитвенном делании, сердце молитвы, составляет так называемая Иисусова молитва: "Господи Иисусе Сыне Божий, помилуй меня грешного". Эта молитва, повторяемая десятки, сотни раз и даже без счета, входит, как необходимый элемент во всякое монашеское правило, ею по нужде могут заменяться и богослужение и всякое другое молитвенное правило, таково ее универсальное значение [1]. При этом сила этой молитвы состоит не в особом ее содержании, которое просто и ясно (молитва мытаря), но в самом сладчайшем Имени Иисусовом. По свидетельству молитвенных подвижников это Имя имеет в себе силу присутствия Божия. Им Бог не только призывается, но Он уже присутствует в этом призывании. Это можно утверждать, конечно, и относительно всякого Имени Божьего, но в особенном и исключительном смысле это должно быть сказано относительно богочеловеческого Имени Иисуса, которое есть собственное Имя Бога и человека. Поэтому Оно преднаречено ангелом в Благовещении, и Ему в Евангелии и новозаветных книгах приписывается такая нарочитая сила. Это имя, единое и для Божества и для человечества Христова, в себе имеет силу боговоплощения, в котором Иисус есть единая ипостась для божеского и человеческого естества. Действие Имени Иисусова, содержащегося в Иисусовой молитве, делатели ее описывают в разных проявлениях. Иноки Афона в XIV веке, последователи св. Григория Паламы, свидетельствовали, что делатели Иисусовой молитвы видели свет Христов и почитали этот свет светом Преображения, Фаворским (как это и было подтверждено на Константинопольских соборах XIV века). Другие, и весь мир, все творение видели в этом свете, прозирая на нем печать Имени Божия, и испытывали от того неземную радость. Одним словом. Имя Иисусово, содержимое в сердце человека, сообщает ему силу обожения, дарованную нам Искупителем.
Молитва Иисусова имеет, согласно свидетельствам подвижников, три образа или ступени. Во-первых, устная или словесная молитва, когда подвижник совершает усилие иметь в устах и в уме непрерывно молитву Иисусову, разумеется, при условии соответственной душевной настроенности: в мире и любви со всеми, в хранении заповеден, в целомудрии и смирении. Продолжительная и, по возможности, непрерывная молитва Иисусова в этой стадии является тяжелым, трудом и как бы невознаграждающимся усилием. На второй ступени Иисусова молитва является умственною или душевною. Она отличается от первой тем, что ум человека входит уже в непрестанно совершаемую молитву и сосредоточивается в Имени Иисусовом, которое раскрывает уже таящуюся в Нем силу Христову. Ум освобождается тогда от своего непрестанного блуждания и остается во "внутренней клети", в богомыслии. Здесь уже имеется предчувствие сладости Имени Иисусова. Наконец, третья и высшая ступень "умного делания" (как зовется Иисусова молитва) совершается в духе или в сердце. Молитва проникает внутреннее существо человека, который в изумлении видит себя в Божественном свете. Молитва Иисусова творится тогда сама собою в сердце непрерывно, без всякого усилия, и свет Имени Иисусова, чрез сердце, озаряет и всю вселенную. Это состояние не изобразимо в слове, но оно является уже предварением того, когда "Бог будет вся во всем". Разумеется, это различение трех ступеней есть только схема для того, чтобы наметить внутренний путь в делании этой молитвы, которое представляет собой основной тип православной мистики. Этот путь не только труден, но и опасен, потому что на нем могут быть духовные прельщения и повреждения. Поэтому правилом здесь является то, что здесь применяется личное руководство старца послушнику, более опытного менее опытному, при обычном же употреблении это, конечно, не является необходимым. Поэтому, "умное делание" сосредоточивалось преимущественно в монастырях [2]. Практическое применение Иисусовой молитвы, естественно, повело за собой и чисто богословское вопрошание об Имени Божием и силе Его, о смысле Его почитания и об Его действенности. Вопрос этот не получил еще догматического разрешения, получившего общецерковную силу, в богословской литературе, он далек еще от достаточного обсуждения. В настоящее время имеется два различных направления в понимании этого вопроса. Одни (называющие себя имяславцами) являются вообще сторонниками реализма в почитании имени: они веруют, что в Имени Божием, призываемом в молитве, уже есть и присутствие Божие (о. Иоанн Кронштадтский и др.); другие же держатся более рационалистического и номиналистического понимания, по которому Имя Божие есть человеческое, инструментальное средство для выражения человеческой мысли и устремления к Богу. Практические делатели Иисусовой молитвы и, вообще, мистики держатся первого мнения, так же как и некоторые богословы и иерархи; вторая точка зрения характеризует школьное богословие и православную схоластику, отразившую на себе влияние европейского рационализма. Во всяком случае, богословское учение об Имени Божием в настоящее время является одним из самых очередных и существенных задач при самоопределении православия, которую наше время передает будущим векам. Этим определяется основная магистраль современного православного богословствования (вместе с учением о Софии, Премудрости Божией, которого мы, по сложности его, здесь совсем не касаемся [3]).
Молитве, вообще, и особенно молитве Иисусовой посвящены многие мистические сочинения, имеющие большое религиозно-практическое значение; прежде всего, обширный сборник Φιλοκαλία – Добротолюбие (т. IV) и целый ряд аскетических творений: свв. Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, новейших русских духовных писателей: еп. Феофана Затворника, еп. Игнатия Брянчанинова, св. еп. Тихона, прот. И. Кронштадтского и др.
Молитва имеет, конечно, сама в себе ценность тем, что она обращает ум к Богу, есть беседа с Богом. Однако главная ее сила в том, что оно, в связи с христианской жизнью, приводит к основной цели христианина, которая есть стяжание Духа Св. Это не есть цель иная, нежели соединение со Христом, чего желает всякая христианская душа. Это соединение совершается Духом Св., почивающим на Сыне, и живущий во Христе узнает это чрез наитие Духа Св., чрез вдохновение новой жизни. Поэтому те, которые живут во Христе, являются духоносными, как и, наоборот: имеющие Духа узнают о себе, что "не я живу, но живет во мне Христос". Эта духоносность не поддается точному описанию, однако она чувствуется при общении с имеющими ее как особая духовная сила, из них исходящая, как духовное благоухание, от них струящееся, как иная, высшая жизнь, в них открывающаяся в пределах нашей человеческой жизни. Они являют собою, что "Царствие Божие внутрь вас есть", между нами и в нашей жизни. И этой печати Духа Божьего, этой духоносности более всего ищет и жаждет, ей более всего поклоняется православная душа. Эта духоносность, соответствующая пророческому служению в Ветхом Завете, в христианстве связана с пророческим служением Христа, как помазанного Духом Святым: "Дух Господень на Мне" (Лук. 4, 18; Ис. 61, 1), и "духовные" старцы, вообще духоносные мужи в православии являются, в этом смысле, христианскими пророками (или пророчицами, потому что это служение не приурочено к одному мужскому полу, как священство). Эта духоносность совершенно не связана с иерархическим саном, хотя фактически может соединяться и с ним. Образы великих святых, как, напр., пред. Сергия или преп. Серафима, дают нам представление об этих пророках в христианстве, а ученики, их окружавшие, о школах пророческих. (Разумеется, пророческое служение, особенно в Новом Завете, отнюдь не связано с предсказанием будущего, ибо "дары различны, и служение различно, но тот же Дух"). Ослепительный образ великого духоносца русская Церковь имела в конце XVIII и начале XIX в. в угоднике Божием Серафиме Саровском. Сохранился рассказ послушника его Мотовилова о том, как он явил ему Духа Божия, в нем живущего. Старец облистал, как солнце, будучи окружен ослепительным сиянием. Хотя это было среди снега зимою, Мотовило" испытывал сладостную теплоту, обонял благоухание, ощущал небесную радость. Когда это явление окончилось, старец предстал пред ним снова в своем обычном виде. Почти в наши дни старцы Оптиной пустыни (о. Амвросий и др.) явили собой великие образы духоносности, и к ним стекались тысячи народа со всей России, и подобное же значение имел о. Иоанн Кронштадтский. Сколь жалко и пусто, рядом с этими образами, является то человеческое самопревознесение, которое сопровождает безблагодатных лжепророков, подобно Льву Толстому, со всею его всемирной литературной славой. В этой духоносности, поистине, исполняется пророчество пр. Иоиля, относящееся к Христовой Церкви: "и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать" (2, 28-29).
Лик Христов светит христианской душе, и он указываеет ей путь жизни. В христианстве и не может быть иного пути, иного "идеала жизни", как стать сообразными Христу, дабы "изобразился в вас Христос" (Гал. 4, 19). Но лик Христов универсален и всеобъемлющ, в нем всякая душа, и по своему, ищет свой собственный лик, и в этом проявляется различие духовных даров. В этом смысле своего пути о каждом человеке или народе можно сказать, что он имеет своего Христа. Католический мир воспринял с наибольшей силой человечество Христа, притом страждущего, распинаемого. Сраспинаться с Ним, сопереживая Его крестную муку, есть едва ли не самое существенное в мистике католичества, с его стигматизацией, молитвенным культом пяти язв и т.д. Конечно, для всего христианства священны страсти Христовы, и все оно склоняется пред крестом. В Православии день великого четверга, чтение двенадцати евангелий о страстях Христовых, есть одна из литургических вершин церковного года, когда церковь тихо плачет, духовно лобызая раны Христовы, и на каждой неделе в среду и пятницу совершаются дневные службы, посвященные кресту. Однако не этот образ Христа распинаемого вошел в душу православного народа и более всего овладел ею, но образ кроткого и смиренного Христа, Агнца Божия, вземлющего грех мира и умалившего Себя до смиренного человеческого образа, пришедшего в мир, чтобы послужить всем, но не Себе принять служение, безропотно приемлющего хулы, поношения и заплевания и на них отвечающего любовью. Путь нищеты духовной, в которой предсодержатся уже все другие "блаженства", более всего открылся пред православною душой. Святость, которой она ищет, (русский народ выразил это свое устремление в своем именовании "святая Русь"), предстала пред ней в образе высочайшего смирения и самоотвержения. Поэтому для православия, особенно русского, так характерны так называемые "Божьи люди", люди не от мира сего, не имеющие "здесь пребывающего града", странники, бездомные, Христа ради юродивые. Это те, которые отказались от своего человеческого ума, приняв образ кажущегося безумия, чтобы вольно терпеть поношения и унижения "Христа ради". Конечно, этим не исчерпывается православная святость, но здесь проявляется то, что в ней есть самое интимное, а вместе и героическое: вся сила религиозной воли и подвига направлена к тому, чтобы совлечься своего естественного образа и облечься во Христа. И этим Божьим людям присуща внешняя беспомощность и беззащитность, как теперь русской Церкви пред своими гонителями. Христос во время страсти Своей, после Гефсимании, уже не творил чудес, и в этой Его человеческой беззащитности, которую не устраняет ни Его Божественная сила, ни легионы ангелов от Отца, лежит печать высочайшего величия: как будто Господь сам на Себе являет здесь исполнение Своих заповедей блаженства и призывает к тому всех скорбящих и обремененных. В этом образе святости есть печать неотмирности, и нет спора, что он может быть восполнен и соединен с работой тоже ради Христа, но в этом мире. Однако неотмирность должна существовать во всяком образе святости как его сокровенное, интимное устремление, как осоляющая соль, ибо без нее все обмирщается: "всего этого ищут и язычники" (Мф. 6, 32), которые не знают, не носят в сердце страждущего, смиренного сердцем и кроткого Христа.
Нельзя отрицать, что православие, не как вселенская Церковь, которою она себя сознает и является, но как восточное христианство сравнительно с западным, имеет лик более неотмирный. Запад практичнее, восток созерцательнее. Восточное христианство сознает как своего первоапостола, возлюбленного ученика Христова, с креста усыновленного Божией Матери, апостола любви. Западное же христианство более запечатлено духом обоих первоверховных апостолов, – Петра (в католичестве) и Павла (в протестантизме). Иоанново христианство стремится прилежать у персей Учителя, тогда как Петрово заботится и о двух мечах и об устроении Церкви. Так обозначились в первообразах апостолов разные пути восточного и западного христианства. С этим связан и созерцательный характер восточного монашества. Последнее не знает того разнообразия и дифференциации монашеской жизни в различных ее орденах, какое свойственно католичеству. Разумеется, принципиально это разнообразие монашеской жизни, в связи с обстоятельствами места и времени, существует и здесь, в пределах одного и того же монашеского типа (или "ордена", хотя в православии вообще неупотребительно это выражение). Однако над всем преобладает одно дело, один труд – молитва. В двойственной формуле, которою определяется характер западного монашества: laborare et orare, в православии члены переставляются в обратном порядке: orare et laborare. Можно сказать, что это приемлемо и для западного монашества, однако остается различие между деятельным и созерцательным христианством. Последнее на западе свойственно только отдельным орденам, а на востоке является общим. Монашество здесь является "принятием ангельского образа", т.е. уходом из мира и служением ему молитвою и подвигом, но не воинствованием в мире ad majorem Dei gloriam. Конечно, дело Марфы и Марии, двух сестер, одинаково возлюбленных Господом, не может быть совершенно разделено и тем более противопоставлено, но все же остается это различие в оттенках. Вполне возможно, что и православие обернется лицом к миру в большей мере, нежели оно это делало, к этому зовет его церковная история. Но останется его духовный тип.
Православие имеет видение умной красоты, к которой душа ищет путей приближения [4]. Это есть небесное царство идей, которое в язычестве созерцал еще Платон, – образы ангельского мира, духовное "небо" (Быт. 1, 1), которое смотрится в земные воды. Это есть идеал не столько религиозно-этический, сколько религиозно-эстетический, который лежит уже по ту сторону добра и зла в их разделении. Это есть тот свет, который светит на пути земных странников. Он зовет за пределы теперешней жизни к ее преображению.
Мистика есть воздух Православия, окружающий его атмосферой хотя и различной плотности, но всегда движущейся. Это наглядно чувствуется при сопоставлении: достаточно сравнить впечатление от протестантской кирки и православного "намоленного" храма, чтобы почувствовать это облако славы Божией, на него опустившееся. (Подобное чувство, хотя и в других тонах, испытывается и в старых католических, романских и готических храмах).
Жизнь в православии связана с видением миров иных, и без него она просто не существует. Богослужение, как уже указано, содержит не только воспоминание, но и реальность воспоминаемых событий. Молящийся, в меру своего духовного возраста, соучаствует в жизни Господа, Божией Матери и святых, и чрез это становится причастным вещей невидимого мира. Этот мистический реализм есть общая предпосылка всего православного богослужения, вне которой оно потеряло бы всю свою силу, – быть совершающейся мистерией боговоплощения. Поэтому православное богослужение обращается, прежде всего, к мистическому чувству, ему говорит и его воспитывает.
Основное значение при этом имеет, наряду со всеми другими таинствами и тайнодействиями, св. Евхаристия, которая есть центр православного благочестия. Принятие тела и крови Христовых и соединение в них со Христом всегда было и остается таким фактом, который является источником молитв, размышлений и, главное, особого евхаристического ведения Христа. Подобно горной вершине, оно возрастает с приближением к Нему, внешним и внутренним. В жизни святых, как об этом свидетельствуют их жития, причащение св. таин имело исключительное значение. Они и сами изменялись, просветлялись при этом (как это описывается в житии преп. Серафима). В житии преп. Сергия рассказывается, что один брат видел его в сослужении ангела, а другой видел его причащающимся огнем, который, свившись, вошел в св. чашу. Но и вообще в христианской жизни причащение св. даров есть духовное торжество, и нужно видеть во дни великого поста, когда причащается вся церковь, каким светом и умилением объяты все причастники, дающие друг другу братское лобзание. Св. причащение есть переживаемое чудо боговоплощения, оно непрестанно ставит человека пред лице Божие и дает ему встречу со Христом, потрясающую мистическим трепетом его существо. Человек становится пред высшею действительностью, и она входит в его жизнь, и чрез это он делается доступен ее воздействиям. Св. Симеон, Новый Богослов, изъясняет, что Царствие Божие, внутри нас сущее, и есть св. причащение. Православная мистика, развивающаяся в связи с св. причащением, чужда чувственности и отличается трезвенностью. Ей остается чужд культ адорации св. даров вне причащения, который развивается в католичестве, так же как и культ сердца Иисусова, сердца Богоматери, пяти ран и под. Вообще в мистике православия не только не поощряется, но всячески изгоняется воображение, которым человек старается чувственно представить и пережить духовное (черта, свойственная exercitia spiritualia Игнатия Лойолы, как и вообще католической мистике). Достаточно тех образов, которые дают церковная молитва и икона, вместе с евангельскими образами, чтобы духовно входить в силу воспоминаемых событий, большее же, что приходит от человеческого воображения, отягчено его субъективностью и, что гораздо хуже, чувственностью, а потому и не пользует нимало.
Православная мистика безобразна и таковым же является и путь к ней, т.е. как молитва, так и богомыслие, которое не должно стремиться к человеческому боговоображению, если сам Бог не возбуждает образа в человеке. Соответственно этому характеру православной мистики, в молитвенной жизни для нее главным средством является Имя Божие, призываемое в молитве. На этом значении Имени делается главное ударение подвижниками и молитвенниками, от древних отшельников Фиваиды и средневековых "исихастов" Афона до о. Иоанна Кронштадтского, в наши дни. Для всех православных христиан существует частное молитвенное правило, состоящее из псалмов и разных молитв, которое для иноков, конечно, чрезвычайно увеличивается (помимо богослужения церковного). Однако самое важное в молитвенном делании, сердце молитвы, составляет так называемая Иисусова молитва: "Господи Иисусе Сыне Божий, помилуй меня грешного". Эта молитва, повторяемая десятки, сотни раз и даже без счета, входит, как необходимый элемент во всякое монашеское правило, ею по нужде могут заменяться и богослужение и всякое другое молитвенное правило, таково ее универсальное значение [1]. При этом сила этой молитвы состоит не в особом ее содержании, которое просто и ясно (молитва мытаря), но в самом сладчайшем Имени Иисусовом. По свидетельству молитвенных подвижников это Имя имеет в себе силу присутствия Божия. Им Бог не только призывается, но Он уже присутствует в этом призывании. Это можно утверждать, конечно, и относительно всякого Имени Божьего, но в особенном и исключительном смысле это должно быть сказано относительно богочеловеческого Имени Иисуса, которое есть собственное Имя Бога и человека. Поэтому Оно преднаречено ангелом в Благовещении, и Ему в Евангелии и новозаветных книгах приписывается такая нарочитая сила. Это имя, единое и для Божества и для человечества Христова, в себе имеет силу боговоплощения, в котором Иисус есть единая ипостась для божеского и человеческого естества. Действие Имени Иисусова, содержащегося в Иисусовой молитве, делатели ее описывают в разных проявлениях. Иноки Афона в XIV веке, последователи св. Григория Паламы, свидетельствовали, что делатели Иисусовой молитвы видели свет Христов и почитали этот свет светом Преображения, Фаворским (как это и было подтверждено на Константинопольских соборах XIV века). Другие, и весь мир, все творение видели в этом свете, прозирая на нем печать Имени Божия, и испытывали от того неземную радость. Одним словом. Имя Иисусово, содержимое в сердце человека, сообщает ему силу обожения, дарованную нам Искупителем.
Молитва Иисусова имеет, согласно свидетельствам подвижников, три образа или ступени. Во-первых, устная или словесная молитва, когда подвижник совершает усилие иметь в устах и в уме непрерывно молитву Иисусову, разумеется, при условии соответственной душевной настроенности: в мире и любви со всеми, в хранении заповеден, в целомудрии и смирении. Продолжительная и, по возможности, непрерывная молитва Иисусова в этой стадии является тяжелым, трудом и как бы невознаграждающимся усилием. На второй ступени Иисусова молитва является умственною или душевною. Она отличается от первой тем, что ум человека входит уже в непрестанно совершаемую молитву и сосредоточивается в Имени Иисусовом, которое раскрывает уже таящуюся в Нем силу Христову. Ум освобождается тогда от своего непрестанного блуждания и остается во "внутренней клети", в богомыслии. Здесь уже имеется предчувствие сладости Имени Иисусова. Наконец, третья и высшая ступень "умного делания" (как зовется Иисусова молитва) совершается в духе или в сердце. Молитва проникает внутреннее существо человека, который в изумлении видит себя в Божественном свете. Молитва Иисусова творится тогда сама собою в сердце непрерывно, без всякого усилия, и свет Имени Иисусова, чрез сердце, озаряет и всю вселенную. Это состояние не изобразимо в слове, но оно является уже предварением того, когда "Бог будет вся во всем". Разумеется, это различение трех ступеней есть только схема для того, чтобы наметить внутренний путь в делании этой молитвы, которое представляет собой основной тип православной мистики. Этот путь не только труден, но и опасен, потому что на нем могут быть духовные прельщения и повреждения. Поэтому правилом здесь является то, что здесь применяется личное руководство старца послушнику, более опытного менее опытному, при обычном же употреблении это, конечно, не является необходимым. Поэтому, "умное делание" сосредоточивалось преимущественно в монастырях [2]. Практическое применение Иисусовой молитвы, естественно, повело за собой и чисто богословское вопрошание об Имени Божием и силе Его, о смысле Его почитания и об Его действенности. Вопрос этот не получил еще догматического разрешения, получившего общецерковную силу, в богословской литературе, он далек еще от достаточного обсуждения. В настоящее время имеется два различных направления в понимании этого вопроса. Одни (называющие себя имяславцами) являются вообще сторонниками реализма в почитании имени: они веруют, что в Имени Божием, призываемом в молитве, уже есть и присутствие Божие (о. Иоанн Кронштадтский и др.); другие же держатся более рационалистического и номиналистического понимания, по которому Имя Божие есть человеческое, инструментальное средство для выражения человеческой мысли и устремления к Богу. Практические делатели Иисусовой молитвы и, вообще, мистики держатся первого мнения, так же как и некоторые богословы и иерархи; вторая точка зрения характеризует школьное богословие и православную схоластику, отразившую на себе влияние европейского рационализма. Во всяком случае, богословское учение об Имени Божием в настоящее время является одним из самых очередных и существенных задач при самоопределении православия, которую наше время передает будущим векам. Этим определяется основная магистраль современного православного богословствования (вместе с учением о Софии, Премудрости Божией, которого мы, по сложности его, здесь совсем не касаемся [3]).
Молитве, вообще, и особенно молитве Иисусовой посвящены многие мистические сочинения, имеющие большое религиозно-практическое значение; прежде всего, обширный сборник Φιλοκαλία – Добротолюбие (т. IV) и целый ряд аскетических творений: свв. Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, новейших русских духовных писателей: еп. Феофана Затворника, еп. Игнатия Брянчанинова, св. еп. Тихона, прот. И. Кронштадтского и др.
Молитва имеет, конечно, сама в себе ценность тем, что она обращает ум к Богу, есть беседа с Богом. Однако главная ее сила в том, что оно, в связи с христианской жизнью, приводит к основной цели христианина, которая есть стяжание Духа Св. Это не есть цель иная, нежели соединение со Христом, чего желает всякая христианская душа. Это соединение совершается Духом Св., почивающим на Сыне, и живущий во Христе узнает это чрез наитие Духа Св., чрез вдохновение новой жизни. Поэтому те, которые живут во Христе, являются духоносными, как и, наоборот: имеющие Духа узнают о себе, что "не я живу, но живет во мне Христос". Эта духоносность не поддается точному описанию, однако она чувствуется при общении с имеющими ее как особая духовная сила, из них исходящая, как духовное благоухание, от них струящееся, как иная, высшая жизнь, в них открывающаяся в пределах нашей человеческой жизни. Они являют собою, что "Царствие Божие внутрь вас есть", между нами и в нашей жизни. И этой печати Духа Божьего, этой духоносности более всего ищет и жаждет, ей более всего поклоняется православная душа. Эта духоносность, соответствующая пророческому служению в Ветхом Завете, в христианстве связана с пророческим служением Христа, как помазанного Духом Святым: "Дух Господень на Мне" (Лук. 4, 18; Ис. 61, 1), и "духовные" старцы, вообще духоносные мужи в православии являются, в этом смысле, христианскими пророками (или пророчицами, потому что это служение не приурочено к одному мужскому полу, как священство). Эта духоносность совершенно не связана с иерархическим саном, хотя фактически может соединяться и с ним. Образы великих святых, как, напр., пред. Сергия или преп. Серафима, дают нам представление об этих пророках в христианстве, а ученики, их окружавшие, о школах пророческих. (Разумеется, пророческое служение, особенно в Новом Завете, отнюдь не связано с предсказанием будущего, ибо "дары различны, и служение различно, но тот же Дух"). Ослепительный образ великого духоносца русская Церковь имела в конце XVIII и начале XIX в. в угоднике Божием Серафиме Саровском. Сохранился рассказ послушника его Мотовилова о том, как он явил ему Духа Божия, в нем живущего. Старец облистал, как солнце, будучи окружен ослепительным сиянием. Хотя это было среди снега зимою, Мотовило" испытывал сладостную теплоту, обонял благоухание, ощущал небесную радость. Когда это явление окончилось, старец предстал пред ним снова в своем обычном виде. Почти в наши дни старцы Оптиной пустыни (о. Амвросий и др.) явили собой великие образы духоносности, и к ним стекались тысячи народа со всей России, и подобное же значение имел о. Иоанн Кронштадтский. Сколь жалко и пусто, рядом с этими образами, является то человеческое самопревознесение, которое сопровождает безблагодатных лжепророков, подобно Льву Толстому, со всею его всемирной литературной славой. В этой духоносности, поистине, исполняется пророчество пр. Иоиля, относящееся к Христовой Церкви: "и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать" (2, 28-29).
Лик Христов светит христианской душе, и он указываеет ей путь жизни. В христианстве и не может быть иного пути, иного "идеала жизни", как стать сообразными Христу, дабы "изобразился в вас Христос" (Гал. 4, 19). Но лик Христов универсален и всеобъемлющ, в нем всякая душа, и по своему, ищет свой собственный лик, и в этом проявляется различие духовных даров. В этом смысле своего пути о каждом человеке или народе можно сказать, что он имеет своего Христа. Католический мир воспринял с наибольшей силой человечество Христа, притом страждущего, распинаемого. Сраспинаться с Ним, сопереживая Его крестную муку, есть едва ли не самое существенное в мистике католичества, с его стигматизацией, молитвенным культом пяти язв и т.д. Конечно, для всего христианства священны страсти Христовы, и все оно склоняется пред крестом. В Православии день великого четверга, чтение двенадцати евангелий о страстях Христовых, есть одна из литургических вершин церковного года, когда церковь тихо плачет, духовно лобызая раны Христовы, и на каждой неделе в среду и пятницу совершаются дневные службы, посвященные кресту. Однако не этот образ Христа распинаемого вошел в душу православного народа и более всего овладел ею, но образ кроткого и смиренного Христа, Агнца Божия, вземлющего грех мира и умалившего Себя до смиренного человеческого образа, пришедшего в мир, чтобы послужить всем, но не Себе принять служение, безропотно приемлющего хулы, поношения и заплевания и на них отвечающего любовью. Путь нищеты духовной, в которой предсодержатся уже все другие "блаженства", более всего открылся пред православною душой. Святость, которой она ищет, (русский народ выразил это свое устремление в своем именовании "святая Русь"), предстала пред ней в образе высочайшего смирения и самоотвержения. Поэтому для православия, особенно русского, так характерны так называемые "Божьи люди", люди не от мира сего, не имеющие "здесь пребывающего града", странники, бездомные, Христа ради юродивые. Это те, которые отказались от своего человеческого ума, приняв образ кажущегося безумия, чтобы вольно терпеть поношения и унижения "Христа ради". Конечно, этим не исчерпывается православная святость, но здесь проявляется то, что в ней есть самое интимное, а вместе и героическое: вся сила религиозной воли и подвига направлена к тому, чтобы совлечься своего естественного образа и облечься во Христа. И этим Божьим людям присуща внешняя беспомощность и беззащитность, как теперь русской Церкви пред своими гонителями. Христос во время страсти Своей, после Гефсимании, уже не творил чудес, и в этой Его человеческой беззащитности, которую не устраняет ни Его Божественная сила, ни легионы ангелов от Отца, лежит печать высочайшего величия: как будто Господь сам на Себе являет здесь исполнение Своих заповедей блаженства и призывает к тому всех скорбящих и обремененных. В этом образе святости есть печать неотмирности, и нет спора, что он может быть восполнен и соединен с работой тоже ради Христа, но в этом мире. Однако неотмирность должна существовать во всяком образе святости как его сокровенное, интимное устремление, как осоляющая соль, ибо без нее все обмирщается: "всего этого ищут и язычники" (Мф. 6, 32), которые не знают, не носят в сердце страждущего, смиренного сердцем и кроткого Христа.
Нельзя отрицать, что православие, не как вселенская Церковь, которою она себя сознает и является, но как восточное христианство сравнительно с западным, имеет лик более неотмирный. Запад практичнее, восток созерцательнее. Восточное христианство сознает как своего первоапостола, возлюбленного ученика Христова, с креста усыновленного Божией Матери, апостола любви. Западное же христианство более запечатлено духом обоих первоверховных апостолов, – Петра (в католичестве) и Павла (в протестантизме). Иоанново христианство стремится прилежать у персей Учителя, тогда как Петрово заботится и о двух мечах и об устроении Церкви. Так обозначились в первообразах апостолов разные пути восточного и западного христианства. С этим связан и созерцательный характер восточного монашества. Последнее не знает того разнообразия и дифференциации монашеской жизни в различных ее орденах, какое свойственно католичеству. Разумеется, принципиально это разнообразие монашеской жизни, в связи с обстоятельствами места и времени, существует и здесь, в пределах одного и того же монашеского типа (или "ордена", хотя в православии вообще неупотребительно это выражение). Однако над всем преобладает одно дело, один труд – молитва. В двойственной формуле, которою определяется характер западного монашества: laborare et orare, в православии члены переставляются в обратном порядке: orare et laborare. Можно сказать, что это приемлемо и для западного монашества, однако остается различие между деятельным и созерцательным христианством. Последнее на западе свойственно только отдельным орденам, а на востоке является общим. Монашество здесь является "принятием ангельского образа", т.е. уходом из мира и служением ему молитвою и подвигом, но не воинствованием в мире ad majorem Dei gloriam. Конечно, дело Марфы и Марии, двух сестер, одинаково возлюбленных Господом, не может быть совершенно разделено и тем более противопоставлено, но все же остается это различие в оттенках. Вполне возможно, что и православие обернется лицом к миру в большей мере, нежели оно это делало, к этому зовет его церковная история. Но останется его духовный тип.
Православие имеет видение умной красоты, к которой душа ищет путей приближения [4]. Это есть небесное царство идей, которое в язычестве созерцал еще Платон, – образы ангельского мира, духовное "небо" (Быт. 1, 1), которое смотрится в земные воды. Это есть идеал не столько религиозно-этический, сколько религиозно-эстетический, который лежит уже по ту сторону добра и зла в их разделении. Это есть тот свет, который светит на пути земных странников. Он зовет за пределы теперешней жизни к ее преображению.
Христианский мистицизм — внутреннее направление христианства, представляющее собой «ценностное переживание тайны Божественной Троицы в рамках особой духовной практики»[1]. Христианский мистицизм сосредоточен на практике глубокой молитвы (контепляции[2]), касающейся Иисуса Христа и Святого Духа[источник не указан 177 дней]. Этот подход и способ жизни отличается от других форм христианской практики своей целью достижения единства с Божественным.
Мистический опыт глубоко личный и вместе с тем производит впечатление снятия личного бытия, растворения в безличном и сверхличном — c этим связано отличие мистики христианской от мистики внехристианской. Христианская мистика есть не только отрешенность, но и воплощенность, конкретность, есть мистика любви. Для христианской мистики можно установить три условия, три признака: личность, свобода, любовь. В мистике внехристианской одинаково и на одном и на другом пути исчезает человек, в космической первостихии или в отвлеченном духе, снимаются границы личности.[3]
На христианскую мистику Востока и Запада определяющее влияние имел Псевдо-Дионисий Ареопагит, он определил её классический тип. От Псевдо-Дионисия зависит и Св. Максим Исповедник, и Св. Фома Аквинат. Германская мистика (Якоб Бёме, Ангелус Силезиус, Майстер Экхарт, Иоганн Таулер, Валентин Вайгель) остро ставит вопрос различения христианской и нехристианской мистики и делает выводы из апофатической теологии, которых не было ещё у Псевдо-Дионисия и в мистике средневековой.[3]
Уильям Инге, декан собора святого Павла в Лондоне и профессор Кембриджского университета, разделял эту scala perfectionis[неизвестный термин] на три этапа: очистительную, или аскетическую; озарительную, или контепляционную, и объединительную, в которой становиться возможным лицезреть Бога лицом к лицу.[4]
В традиции Мистической теологии, библейские тексты обычно толкуются аллегорически; например, в тексте Нагорной проповеди Иисуса (Матф. 5-7) во всей полноте содержится путь к прямому единению с Богом. Также, согласно контепляционной и отшельнической традиции кармелитов центральным библейским текстом являются 3-4 стихи 1 книги Царств, на основе которых написана «Книга первых монахов».
Широкий спектр религиозных течений придерживается мнения, что человек утратил свою изначальную связь с Богом. Человеческий дух страстно желает обрести эту связь вновь и сокровенно познать Бога. Христианская традиция учит, что эту связь можно восстановить лишь посредством крови Иисуса Христа(Евреям 10:19,20). Христианский ортодоксальный мистицизм также всегда поддерживал необходимость Христа как Единственного Посредника, через которого можно быть удостоенным познания Бога. Глубина этого переживания, тем не менее, зависит от очищения христианина и от дел любви, совершенных во славу Иисуса Христа, а также от инициативы Бога явить Себя через Христа и Святой Дух в особой контепляционной благодати. Христианский мистицизм находит подтверждение своим практикам и учению в Библии. В то же время, некоторые формы мистицизма[уточнить], особенно те, на которые оказало воздействие течение нью-эйдж, могут пренебрегать значением крови Иисуса, и это не находит поддержки в классических мистических христианских традициях, будь то католицизм, протестантизм или православие.
Практика
Христиане основное внимание в мистике уделяют духовному преображению собственного эгоизма; следование этому пути имеет целью более полную реализацию людей, «созданных по образу и подобию Божьему», и как следствие — жизнь в гармоничном общении с Богом, Церковью, человечеством и всем творением, включая себя. По мнению христиан, этот человеческий потенциал реализуется наиболее полно в Иисусе Христе, именно потому, что Он и Бог, и человек, и проявляется в других людях через их близость с Ним, сознательную, как в случае с христианскими мистиками, или бессознательную, как в случае духовных людей, следующих другим традициям, таких как Ганди. Восточная христианская традиция называет такое преображение теозисом, или обожением, суть которого наверно наиболее полно описана древним афоризмом, приписываемым Афанасию Александрийскому: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом».
Начиная, по крайней мере, с Евагрия Понтийского и Псевдо-Дионисия Ареопагита, христианские мистики следовали тройному пути достижения святости. Хотя эти три аспекта имеют разные названия в разных христианских традициях, их можно характеризовать как очищение, просвещение и единение, что соответствует телу, душе (или разуму) и духу.
С первого пути, очищения, начинается восхождение христианского мистика. Этот подход основное внимание уделяет дисциплине, особенно в том, что касается человеческого тела, подчеркивая важность молитвы в определенное время, либо самостоятельной, либо коллективной, и в определенных позах, часто стоя или на коленях. Также большое внимание уделяется посту и совершению подаяния; последнее включает так называемые «дела милосердия», как духовные, так и телесные, такие как накормить голодных или предоставить ночлег.
Очищение, которое основано на христианской духовности в целом, главным образом сосредоточено на «умерщвлении духом дел плотских» (Рим. 8:13). К делам плоти здесь относится не только внешнее поведение, но и привычки, отношения, принуждение, пагубные склонности и т. д. (иногда называемые эгоистическими страстями), которые противостоят истинному существованию и жизни христианской не только внешне, но и внутренне. Эвелин Андерхилл описывает очищение как осознание собственного несовершенства и конечности, что приводит к самодисциплине и смирению. Из-за телесного и воспитательного аспекта эта фаза, так же как и весь христианский путь, часто называют «аскетическим» — термин, который происходит от греческого слова, подразумевающего атлетическую тренировку. По этой причине в древней христианской литературе выдающихся мистиков часто называли «духовными атлетами» — образ, который также несколько раз используется в Новом Завете для описания христианской жизни. Это стяжание спасения в подлинном смысле этого слова, относящемся не только к вечной жизни, но и к исцелению во всех жизненных областях, включая восстановление духовного, психологического и физического здоровья.
Другой аспект традиционной христианской духовности, или мистицизма, связан с общинной основой. Даже жизнь отшельников — это жизнь в общении с Церковью и общиной верующих. таким образом, участие в групповых поклонениях, особенно в Евхаристии, является неотъемлемой частью христианского мистицизма. Связана с этим и практика наличия духовника, исповедника, или «друга души», с которым ведется обсуждение духовного прогресса. Этот человек, который может быть как духовным лицом, так и мирским, выступает в качестве духовного наставника.
Мистический опыт глубоко личный и вместе с тем производит впечатление снятия личного бытия, растворения в безличном и сверхличном — c этим связано отличие мистики христианской от мистики внехристианской. Христианская мистика есть не только отрешенность, но и воплощенность, конкретность, есть мистика любви. Для христианской мистики можно установить три условия, три признака: личность, свобода, любовь. В мистике внехристианской одинаково и на одном и на другом пути исчезает человек, в космической первостихии или в отвлеченном духе, снимаются границы личности.[3]
На христианскую мистику Востока и Запада определяющее влияние имел Псевдо-Дионисий Ареопагит, он определил её классический тип. От Псевдо-Дионисия зависит и Св. Максим Исповедник, и Св. Фома Аквинат. Германская мистика (Якоб Бёме, Ангелус Силезиус, Майстер Экхарт, Иоганн Таулер, Валентин Вайгель) остро ставит вопрос различения христианской и нехристианской мистики и делает выводы из апофатической теологии, которых не было ещё у Псевдо-Дионисия и в мистике средневековой.[3]
Уильям Инге, декан собора святого Павла в Лондоне и профессор Кембриджского университета, разделял эту scala perfectionis[неизвестный термин] на три этапа: очистительную, или аскетическую; озарительную, или контепляционную, и объединительную, в которой становиться возможным лицезреть Бога лицом к лицу.[4]
В традиции Мистической теологии, библейские тексты обычно толкуются аллегорически; например, в тексте Нагорной проповеди Иисуса (Матф. 5-7) во всей полноте содержится путь к прямому единению с Богом. Также, согласно контепляционной и отшельнической традиции кармелитов центральным библейским текстом являются 3-4 стихи 1 книги Царств, на основе которых написана «Книга первых монахов».
Широкий спектр религиозных течений придерживается мнения, что человек утратил свою изначальную связь с Богом. Человеческий дух страстно желает обрести эту связь вновь и сокровенно познать Бога. Христианская традиция учит, что эту связь можно восстановить лишь посредством крови Иисуса Христа(Евреям 10:19,20). Христианский ортодоксальный мистицизм также всегда поддерживал необходимость Христа как Единственного Посредника, через которого можно быть удостоенным познания Бога. Глубина этого переживания, тем не менее, зависит от очищения христианина и от дел любви, совершенных во славу Иисуса Христа, а также от инициативы Бога явить Себя через Христа и Святой Дух в особой контепляционной благодати. Христианский мистицизм находит подтверждение своим практикам и учению в Библии. В то же время, некоторые формы мистицизма[уточнить], особенно те, на которые оказало воздействие течение нью-эйдж, могут пренебрегать значением крови Иисуса, и это не находит поддержки в классических мистических христианских традициях, будь то католицизм, протестантизм или православие.
Практика
Христиане основное внимание в мистике уделяют духовному преображению собственного эгоизма; следование этому пути имеет целью более полную реализацию людей, «созданных по образу и подобию Божьему», и как следствие — жизнь в гармоничном общении с Богом, Церковью, человечеством и всем творением, включая себя. По мнению христиан, этот человеческий потенциал реализуется наиболее полно в Иисусе Христе, именно потому, что Он и Бог, и человек, и проявляется в других людях через их близость с Ним, сознательную, как в случае с христианскими мистиками, или бессознательную, как в случае духовных людей, следующих другим традициям, таких как Ганди. Восточная христианская традиция называет такое преображение теозисом, или обожением, суть которого наверно наиболее полно описана древним афоризмом, приписываемым Афанасию Александрийскому: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать богом».
Начиная, по крайней мере, с Евагрия Понтийского и Псевдо-Дионисия Ареопагита, христианские мистики следовали тройному пути достижения святости. Хотя эти три аспекта имеют разные названия в разных христианских традициях, их можно характеризовать как очищение, просвещение и единение, что соответствует телу, душе (или разуму) и духу.
С первого пути, очищения, начинается восхождение христианского мистика. Этот подход основное внимание уделяет дисциплине, особенно в том, что касается человеческого тела, подчеркивая важность молитвы в определенное время, либо самостоятельной, либо коллективной, и в определенных позах, часто стоя или на коленях. Также большое внимание уделяется посту и совершению подаяния; последнее включает так называемые «дела милосердия», как духовные, так и телесные, такие как накормить голодных или предоставить ночлег.
Очищение, которое основано на христианской духовности в целом, главным образом сосредоточено на «умерщвлении духом дел плотских» (Рим. 8:13). К делам плоти здесь относится не только внешнее поведение, но и привычки, отношения, принуждение, пагубные склонности и т. д. (иногда называемые эгоистическими страстями), которые противостоят истинному существованию и жизни христианской не только внешне, но и внутренне. Эвелин Андерхилл описывает очищение как осознание собственного несовершенства и конечности, что приводит к самодисциплине и смирению. Из-за телесного и воспитательного аспекта эта фаза, так же как и весь христианский путь, часто называют «аскетическим» — термин, который происходит от греческого слова, подразумевающего атлетическую тренировку. По этой причине в древней христианской литературе выдающихся мистиков часто называли «духовными атлетами» — образ, который также несколько раз используется в Новом Завете для описания христианской жизни. Это стяжание спасения в подлинном смысле этого слова, относящемся не только к вечной жизни, но и к исцелению во всех жизненных областях, включая восстановление духовного, психологического и физического здоровья.
Другой аспект традиционной христианской духовности, или мистицизма, связан с общинной основой. Даже жизнь отшельников — это жизнь в общении с Церковью и общиной верующих. таким образом, участие в групповых поклонениях, особенно в Евхаристии, является неотъемлемой частью христианского мистицизма. Связана с этим и практика наличия духовника, исповедника, или «друга души», с которым ведется обсуждение духовного прогресса. Этот человек, который может быть как духовным лицом, так и мирским, выступает в качестве духовного наставника.
Мы задались целью рассмотреть здесь некоторые аспекты духовной жизни и опыта Восточной Церкви в их связи с основными данными православного догматического предания. Таким образом термин "мистическое богословие" означает в данном случае аспект духовной жизни, выражающий ту или иную догматическую установку.
В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет Божественную тайну, данную Откровением. С другой стороны, часто мистику противополагают богословию, как область, не доступную познанию, как неизреченную тайну, сокровенную глубину, как то, что может быть скорее пережито, чем познано, то, что скорее поддается особому опыту, превосходящему наши способности суждения, чем какому-либо восприятию наших чувств или нашего разума. Если бы мы безоговорочно приняли такую концепцию резкого противопоставления мистики богословию, то это в конечном итоге привело бы нас к положению Бергсона [1], который различает статичную религию Церквей - религию социальную и консервативную - и динамичную религию мистиков - религию личную и обновляющую. Был ли Бергсон в какой-то мере прав, утверждая такое противоположение? Это трудно разрешимый вопрос, тем более, что те два определения, которые противополагает Бергсон в области религии, обоснованы двумя "полюсами" его философского видения вселенной - как природы и жизненного порыва. Но и независимо от воззрений Бергсона мы часто слышим суждение, будто бы мистика является областью, предназначенной немногим, неким исключением из общего правила, привилегией, дарованной некоторым душам, опытно обладающим истиной, в то время как все прочие должны довольствоваться более или менее слепым подчинением догматическому учению, наложенному извне в виде принудительного авторитета. Подчеркивая это противопоставление, можно иной раз зайти слишком далеко, в особенности если к тому же несколько уклониться от исторической правды; таким образом можно противопоставить как противников мистиков - богословам, духоносных - церковной иерархии, святых - Церкви. Достаточно вспомнить ряд мест у Гарнака, "Жизнь святого Франциска" Сабатье и другие произведения, возникающие чаще всего из-под пера историков-протестантов.
Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой и богословием, между личным опытом познания Божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью. Слова, сказанные сто лет тому назад великим православным богословом митрополитом Филаретом Московским, прекрасно выражают именно это положение: "Необходимо, чтоб никакую, даже в тайне сокровенную премудрость (мы) не почитали для нас чуждою и до нас не принадлежащею, но со смирением устроили ум к божественному созерцанию и сердце к небесным ощущениям" [2]. Иначе говоря, догмат, выражающий богооткровенную истину, представляющуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его преобразованию, и таким образом становиться способным обрести мистический опыт. Богословие и мистика отнюдь не противополагаются; напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое невозможно без второй: если мистический опыт есть личностное проявление общей веры, то богословие есть общее выражение того, что может быть опытно познано каждым. Вне истины, хранимой всей Церковью, личный опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности; это было бы смесью истинного и ложного, реального и иллюзорного, это был бы "мистицизм" в дурном смысле этого слова. С другой стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия на душу человека, если бы оно как-то не выражало внутреннего опыта истины, данного в различной "мере" каждому верующему. Итак, нет христианской мистики без богословия и, что существеннее, нет богословия без мистики. Не случайно предание Восточной Церкви сохранило наименование "богослов" только за тремя духовными писателями: первый из них - святой Иоанн Богослов, наиболее "мистичный" из четырех евангелистов, второй - святой Григорий Богослов, автор созерцательных поэм, и третий - святой Симеон, называемый "Новым Богословом", воспевший соединение с Богом. Таким образом мистика рассматривается в данном случае как совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие "преимущественное".
В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет Божественную тайну, данную Откровением. С другой стороны, часто мистику противополагают богословию, как область, не доступную познанию, как неизреченную тайну, сокровенную глубину, как то, что может быть скорее пережито, чем познано, то, что скорее поддается особому опыту, превосходящему наши способности суждения, чем какому-либо восприятию наших чувств или нашего разума. Если бы мы безоговорочно приняли такую концепцию резкого противопоставления мистики богословию, то это в конечном итоге привело бы нас к положению Бергсона [1], который различает статичную религию Церквей - религию социальную и консервативную - и динамичную религию мистиков - религию личную и обновляющую. Был ли Бергсон в какой-то мере прав, утверждая такое противоположение? Это трудно разрешимый вопрос, тем более, что те два определения, которые противополагает Бергсон в области религии, обоснованы двумя "полюсами" его философского видения вселенной - как природы и жизненного порыва. Но и независимо от воззрений Бергсона мы часто слышим суждение, будто бы мистика является областью, предназначенной немногим, неким исключением из общего правила, привилегией, дарованной некоторым душам, опытно обладающим истиной, в то время как все прочие должны довольствоваться более или менее слепым подчинением догматическому учению, наложенному извне в виде принудительного авторитета. Подчеркивая это противопоставление, можно иной раз зайти слишком далеко, в особенности если к тому же несколько уклониться от исторической правды; таким образом можно противопоставить как противников мистиков - богословам, духоносных - церковной иерархии, святых - Церкви. Достаточно вспомнить ряд мест у Гарнака, "Жизнь святого Франциска" Сабатье и другие произведения, возникающие чаще всего из-под пера историков-протестантов.
Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой и богословием, между личным опытом познания Божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью. Слова, сказанные сто лет тому назад великим православным богословом митрополитом Филаретом Московским, прекрасно выражают именно это положение: "Необходимо, чтоб никакую, даже в тайне сокровенную премудрость (мы) не почитали для нас чуждою и до нас не принадлежащею, но со смирением устроили ум к божественному созерцанию и сердце к небесным ощущениям" [2]. Иначе говоря, догмат, выражающий богооткровенную истину, представляющуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его преобразованию, и таким образом становиться способным обрести мистический опыт. Богословие и мистика отнюдь не противополагаются; напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое невозможно без второй: если мистический опыт есть личностное проявление общей веры, то богословие есть общее выражение того, что может быть опытно познано каждым. Вне истины, хранимой всей Церковью, личный опыт был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности; это было бы смесью истинного и ложного, реального и иллюзорного, это был бы "мистицизм" в дурном смысле этого слова. С другой стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия на душу человека, если бы оно как-то не выражало внутреннего опыта истины, данного в различной "мере" каждому верующему. Итак, нет христианской мистики без богословия и, что существеннее, нет богословия без мистики. Не случайно предание Восточной Церкви сохранило наименование "богослов" только за тремя духовными писателями: первый из них - святой Иоанн Богослов, наиболее "мистичный" из четырех евангелистов, второй - святой Григорий Богослов, автор созерцательных поэм, и третий - святой Симеон, называемый "Новым Богословом", воспевший соединение с Богом. Таким образом мистика рассматривается в данном случае как совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие "преимущественное".
В противоположность гносису [3], где познание само по себе является целью гностика, христианское богословие в конечном счете всегда только средство, только некая совокупность знаний, долженствующая служить той цели, что превосходит всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом или обожение, о котором говорят восточные отцы. Мы приходим, таким образом, к заключению, которое может показаться в достаточной степени парадоксальным: христианская теория имеет значение в высшей степени практическое и чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей цели - к единению с Богом, - тем она и "практичнее".
Вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной точки зрения, прежде всего неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом. И действительно, Церковь борется против гностиков для того, чтобы защитить саму идею обожения как вселенского завершения: "Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать богом". Она утверждает догмат Единосущной Троицы против ариан, ибо именно Слово, Логос, открывает нам путь к единению с Божеством, и если воплотившееся Слово не той же сущности, что Отец, если Оно - не истинный Бог, то наше обожение невозможно. Церковь осуждает учение несториан, чтобы сокрушить средостение, которым в Самом Христе хотели отделить человека от Бога. Она восстает против учения Аполлинария и монофизитов, чтобы показать: поскольку истинная природа человека во всей ее полноте была взята на Себя Словом, постольку наша природа во всей своей целостности должна войти в единение с Богом. Она борется с монофелитами, ибо вне соединения двух воль во Христе - воли Божественной и воли человеческой невозможно человеку достигнуть обожения: "Бог создал человека Своей единой волею, но Он не может спасти его без содействия воли человеческой". Церковь торжествует в борьбе за иконопочитание, утверждая возможность выражать Божественные реальности в материи, как символ и залог нашего обожения. В вопросах, последовательно возникающих в дальнейшем - о Святом Духе, о благодати, о самой Церкви - догматический вопрос, поставленный нашим временем, - главной заботой Церкви и залогом ее борьбы всегда являются утверждение и указание возможности, модуса и способов единения человека с Богом. Вся история христианского догмата развивается вокруг одного и того же мистического ядра, которое в течение следовавших одна за другой эпох оборонялось различным видом оружия против великого множества различных противников.
Богословские системы, разработанные в течение всей этой борьбы, можно рассматривать в их самом непосредственном соотношении с жизненной целью, достижению которой они должны были способствовать, иначе говоря, способствовать соединению с Богом. И тогда они воспринимаются нами как основы христианской духовной жизни. Это и есть именно то, что мы имеем в виду, когда говорим "мистическое богословие". Это не "мистика" в собственном смысле этого слова, то есть не личный опыт различных учителей высокой духовности. Этот опыт остается для нас чаще всего недоступным, даже если он и находит для себя словесное выражение. Действительно, что мы можем сказать о мистическом опыте апостола Павла: "Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать" (2 Кор. 12, 2-4). Чтобы дерзнуть вынести какое-либо суждение о природе этого опыта, нужно было бы знать о нем более самого апостола Павла, признающегося в своем неведении: "Я не знаю: Бог знает". Мы решительно отстраняемся от какой-либо психологии. Мы также не намерены излагать здесь богословские системы как таковые, но лишь те богословские начала, которые необходимы для понимания духовной жизни, и те догматы, которые являются основой всякой мистики. Вот первое определение, оно же и ограничение нашей темы, как "мистическое богословие Восточной Церкви".
Второе определение нашей темы замыкает ее, так сказать, в пространстве. Областью нашего изучения мистического богословия будет именно христианский Восток, или, точнее, Православная Восточная Церковь. Нужно признать, что такое ограничение несколько искусственно. Действительно, поскольку разрыв между Восточной и Западной Церквами произошел только в середине XI века, все, что ему предшествует, является общим и неразделенным сокровищем обеих разъединившихся частей. Православная Церковь не была бы тем, что она есть, если бы не имела святого Киприана, блаженного Августина, святого папы Григория Двоеслова, так же, как и Римско-Католическая Церковь не могла бы обойтись без святых Афанасия Великого, Василия Великого, Кирилла Александрийского. Таким образом, когда мы хотим говорить о мистическом богословии Восточной ли, Западной ли Церкви, то идем вслед за одной из тех двух традиций, которые до известного момента являлись двумя поместными традициями единой Церкви, свидетельствующими о единой христианской истине, которые лишь впоследствии разделились и тем самым подали повод к возникновению двух различных и во многих пунктах непримиримых догматических положений. Можно ли судить о двух этих традициях, встав на нейтральную почву, в равной степени чуждую как одной, так и другой? Это значило бы судить о христианстве как нехристиане, то есть заранее отказавшись понимать что-либо в предмете предполагаемого изучения. Ибо объективность вовсе не состоит в том, чтобы ставить себя вне данного объекта, а наоборот, в том, чтобы рассматривать этот объект в нем и через него. Существуют сферы, где то, что обычно называется "объективностью", есть просто безразличие и где безразличие означает непонимание. Итак, при современном положении догматического несогласия между Востоком и Западом, если мы хотим изучать мистическое богословие Восточной Церкви, то должны сделать выбор между двумя возможными установками: или стать на сторону западной догматики и рассматривать восточное предание сквозь призму предания западного, то есть критикуя его, или же представить восточное предание в свете догматов Церкви Восточной. Эта последняя установка и является для нас единственно приемлемой.
Вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной точки зрения, прежде всего неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом. И действительно, Церковь борется против гностиков для того, чтобы защитить саму идею обожения как вселенского завершения: "Бог стал человеком для того, чтобы человек мог стать богом". Она утверждает догмат Единосущной Троицы против ариан, ибо именно Слово, Логос, открывает нам путь к единению с Божеством, и если воплотившееся Слово не той же сущности, что Отец, если Оно - не истинный Бог, то наше обожение невозможно. Церковь осуждает учение несториан, чтобы сокрушить средостение, которым в Самом Христе хотели отделить человека от Бога. Она восстает против учения Аполлинария и монофизитов, чтобы показать: поскольку истинная природа человека во всей ее полноте была взята на Себя Словом, постольку наша природа во всей своей целостности должна войти в единение с Богом. Она борется с монофелитами, ибо вне соединения двух воль во Христе - воли Божественной и воли человеческой невозможно человеку достигнуть обожения: "Бог создал человека Своей единой волею, но Он не может спасти его без содействия воли человеческой". Церковь торжествует в борьбе за иконопочитание, утверждая возможность выражать Божественные реальности в материи, как символ и залог нашего обожения. В вопросах, последовательно возникающих в дальнейшем - о Святом Духе, о благодати, о самой Церкви - догматический вопрос, поставленный нашим временем, - главной заботой Церкви и залогом ее борьбы всегда являются утверждение и указание возможности, модуса и способов единения человека с Богом. Вся история христианского догмата развивается вокруг одного и того же мистического ядра, которое в течение следовавших одна за другой эпох оборонялось различным видом оружия против великого множества различных противников.
Богословские системы, разработанные в течение всей этой борьбы, можно рассматривать в их самом непосредственном соотношении с жизненной целью, достижению которой они должны были способствовать, иначе говоря, способствовать соединению с Богом. И тогда они воспринимаются нами как основы христианской духовной жизни. Это и есть именно то, что мы имеем в виду, когда говорим "мистическое богословие". Это не "мистика" в собственном смысле этого слова, то есть не личный опыт различных учителей высокой духовности. Этот опыт остается для нас чаще всего недоступным, даже если он и находит для себя словесное выражение. Действительно, что мы можем сказать о мистическом опыте апостола Павла: "Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать" (2 Кор. 12, 2-4). Чтобы дерзнуть вынести какое-либо суждение о природе этого опыта, нужно было бы знать о нем более самого апостола Павла, признающегося в своем неведении: "Я не знаю: Бог знает". Мы решительно отстраняемся от какой-либо психологии. Мы также не намерены излагать здесь богословские системы как таковые, но лишь те богословские начала, которые необходимы для понимания духовной жизни, и те догматы, которые являются основой всякой мистики. Вот первое определение, оно же и ограничение нашей темы, как "мистическое богословие Восточной Церкви".
Второе определение нашей темы замыкает ее, так сказать, в пространстве. Областью нашего изучения мистического богословия будет именно христианский Восток, или, точнее, Православная Восточная Церковь. Нужно признать, что такое ограничение несколько искусственно. Действительно, поскольку разрыв между Восточной и Западной Церквами произошел только в середине XI века, все, что ему предшествует, является общим и неразделенным сокровищем обеих разъединившихся частей. Православная Церковь не была бы тем, что она есть, если бы не имела святого Киприана, блаженного Августина, святого папы Григория Двоеслова, так же, как и Римско-Католическая Церковь не могла бы обойтись без святых Афанасия Великого, Василия Великого, Кирилла Александрийского. Таким образом, когда мы хотим говорить о мистическом богословии Восточной ли, Западной ли Церкви, то идем вслед за одной из тех двух традиций, которые до известного момента являлись двумя поместными традициями единой Церкви, свидетельствующими о единой христианской истине, которые лишь впоследствии разделились и тем самым подали повод к возникновению двух различных и во многих пунктах непримиримых догматических положений. Можно ли судить о двух этих традициях, встав на нейтральную почву, в равной степени чуждую как одной, так и другой? Это значило бы судить о христианстве как нехристиане, то есть заранее отказавшись понимать что-либо в предмете предполагаемого изучения. Ибо объективность вовсе не состоит в том, чтобы ставить себя вне данного объекта, а наоборот, в том, чтобы рассматривать этот объект в нем и через него. Существуют сферы, где то, что обычно называется "объективностью", есть просто безразличие и где безразличие означает непонимание. Итак, при современном положении догматического несогласия между Востоком и Западом, если мы хотим изучать мистическое богословие Восточной Церкви, то должны сделать выбор между двумя возможными установками: или стать на сторону западной догматики и рассматривать восточное предание сквозь призму предания западного, то есть критикуя его, или же представить восточное предание в свете догматов Церкви Восточной. Эта последняя установка и является для нас единственно приемлемой.
Подлинным богопознанием, или богопознанием в подлинном смысле слова, может называться только сверхъестественное богопознание. Оно дается человеку только в опыте, при непосредственном наитии Святого Духа. Все истины христианской веры в Священном Писании и Предании Церкви лишь приоткрываются нам, а в полноте они познаются только в опыте благодатной жизни.
Святые отцы усматривают в сверхъестественном богопознании две последовательных ступени. Первая ступень характерна для Ветхого Завета, «дохристианского» человечества. Это Откровение в некоторых внешних образах, например, такие образы, как «Неопалимая Купина», лестница, которую видел в видении патриарх Иаков и др. Эти образы имеют для человека воспитательное значение.
Второй уровень сверхъестественного богопознания возможен только в Новом Завете, только в Христианской Церкви. Это, так называемое, умное Откровение — откровение без всякого внешнего образа, которое выше всякого образа и всякого слова.
Это молитвенные созерцания, откровения, которые совершатся внутри человеческой души. Во время таких откровений Бог не показывается человеку как нечто внешнее, но ощущается и переживается человеком в самом себе. При этом человек видит Бога потому, что он (человек) уже в Нем и Божия сила в нем действует. Наиболее ярким примером такого богопознания является практика исихастов.
Святые отцы усматривают в сверхъестественном богопознании две последовательных ступени. Первая ступень характерна для Ветхого Завета, «дохристианского» человечества. Это Откровение в некоторых внешних образах, например, такие образы, как «Неопалимая Купина», лестница, которую видел в видении патриарх Иаков и др. Эти образы имеют для человека воспитательное значение.
Второй уровень сверхъестественного богопознания возможен только в Новом Завете, только в Христианской Церкви. Это, так называемое, умное Откровение — откровение без всякого внешнего образа, которое выше всякого образа и всякого слова.
Это молитвенные созерцания, откровения, которые совершатся внутри человеческой души. Во время таких откровений Бог не показывается человеку как нечто внешнее, но ощущается и переживается человеком в самом себе. При этом человек видит Бога потому, что он (человек) уже в Нем и Божия сила в нем действует. Наиболее ярким примером такого богопознания является практика исихастов.
Возможно, нам возразят, что догматическое разногласие между Востоком и Западом было случайным, что оно не имело решающего значения, что речь шла скорее о двух различных исторических мирах, которые должны были рано или поздно друг от друга отделиться и пойти разными путями, что догматическая ссора была только предлогом к тому, чтобы окончательно расторгнуть церковное единство, которого фактически давно уже не существовало. Подобными утверждениями, которые очень часто можно услышать как на Востоке, так и на Западе, мы обязаны чисто светскому умозрению, общепринятой методической привычке рассматривать историю Церкви без учета ее религиозной природы как таковой. Для такого "историка Церкви" религиозный фактор исчезает, так как его заменяют другие факторы: игра политических или социальных интересов, роль этнических или культурных условий, которые принимаются за решающие силы, определяющие жизнь Церкви. Говорить об этих факторах как об истинных причинах, управляющих церковной историей, считается более дальновидным и более современным. Но всякий историк-христианин, отдавая должное этим условиям, не может не считать их только "внешними" по отношению к самому бытию Церкви; он не может отказаться от того, чтобы видеть в Церкви некое самобытное начало, подчиняющееся иному закону, не детерминистическому закону "мира сего". Если же мы обратимся к догматическому вопросу, который разделил Восток и Запад, к вопросу об исхождении Святого Духа, то о нем никак нельзя говорить как о случайном явлении в истории Церкви как таковой. С религиозной точки зрения он - единственная действительная причина сцепления тех факторов, которые привели к разделению. Хотя причина эта, может быть, и была обусловлена несколькими факторами, тем не менее догматическое определение стало как для одних, так и для других некиим духовным обязательством, сознательным выбором в области исповедания веры.
Если часто наблюдается склонность умалять значение тех догматических данных, которые определили все дальнейшее развитие традиций обеих Церквей, то это объясняется известным бесчувствием к самому догмату, который рассматривается как нечто внешнее и абстрактное. Нам часто говорят, что важна только духовная настроенность, что догматическая разница ничего не меняет. Тем не менее духовная жизнь и догмат, мистика и богословие нераздельно связаны в жизни Церкви. Что же касается Восточной Церкви, то она, как мы уже говорили, не делает особо четкого различия между богословием и мистикой, между областью общей веры и сферой личного опыта. Итак, если мы хотим говорить о мистическом богословии восточного предания, мы не можем говорить о нем иначе, как только в рамках догматического учения Православной Церкви.
Прежде чем перейти к нашей теме, необходимо сказать несколько слов о Православной Церкви, которую и сейчас еще мало знают на Западе. Отец Конгар в своей во многих отношениях ценной книге "Разделенные христиане" ("Chretiens desunis"), на страницах, посвященных Православию, несмотря на все его старания быть объективным, остается тем не менее зависимым от предвзятости известных воззрений на Православную Церковь: "В то время, как Запад, - говорит он, - на основе одновременно развернутой и определенной августиновской идеологии требует для Церкви присущей ей жизненной и организационной самостоятельности и в этом плане проводит основание линии очень положительной экклезиологии, Восток на практике, а иногда даже и в теории, допускает в социальной и человеческой реальности Церкви принцип политического единства, принцип не религиозный, частный, и не подлинно вселенский" [4]. Отцу Конгару, как и большинству высказывавшихся по этому поводу католических и протестантских авторов, Православие представляется федерацией национальных Церквей, обоснованных политическими принципами, то есть Церковью какого-либо государства. Только не зная канонических основ и истории Церкви, можно пойти на риск подобных обобщений. Мысль, что единство какой-либо поместной Церкви обосновано политическим, этническим или культурным началом, считается в Православной Церкви ересью, имеющей специальное название: филетизм [5]. Именно территория Церкви, земля, освященная более или менее древней христианской традицией, и является "базой" митрополичьего округа, управляемого архиепископом или митрополитом, с своими епископами для каждого диоцеза, которые время от времени собираются на собор. Если митрополичьи округи соединяются и образуют поместные Церкви под юрисдикцией епископа, который часто именуется патриархом, то опять-таки общность поместных церковных традиции, общая судьба, а также и удобные условия для созыва собора являются основными причинами образования этих крупных юрисдикционных округов, территория которых не обязательно соответствует политическим границам [6]. Патриарх Константинопольский пользуется некоторым первенством чести и иногда является судьей в разногласиях, хотя вся совокупность Вселенской Церкви в его юрисдикцию не входит. Поместные Восточные Церкви были примерно в таких же отношениях с Римским апостольским патриархатом, первым престолом Церкви до ее разделения и символом ее единства.
Церковное единство выражает себя в общении поместных Церквей, в принятии всеми Церквами постановлений поместного Собора, приобретающего тем самым значение Собора Вселенского и, наконец, в исключительном случае это единство может проявляться созывом всеобщего Собора [7]. Кафоличность Церкви, отнюдь не являясь "привилегией" какого-либо одного престола или одного определенного церковного центра, осуществляется скорее в богатстве и многообразии поместных преданий, единодушно свидетельствующих о единой истине, о том, что хранится всегда, повсюду и всеми. Поскольку Церковь кафолична в каждой из своих частей, постольку каждый из ее членов - не только клирик, но и каждый мирянин - призывается исповедывать и защищать истину, противясь даже епископам, если они впадают в ересь. Христианин, получивший дары Духа Святого в таинстве миропомазания, не может не быть сознательным в своей вере. Он всегда ответствен за Церковь. Отсюда - временами неспокойный и бурный аспект церковной жизни, характерный для Византии, России и других стран православного мира. Но это - признаки религиозной жизнеспособности, интенсивности духовной жизни, глубоко затрагивающей весь верующий народ, объединенный сознанием, что он образует единое тело с церковной иерархией. Отсюда и та непобедимая сила, благодаря которой Православие проходит через все испытания, все бедствия и потрясения, всегда применяясь к новой исторической действительности и оказываясь сильнее всяких внешних условий. Православная Церковь хотя и называется обычно Восточной, считает себя тем не менее Церковью Вселенской. И это верно в том смысле, что она не ограничена сферой определенной культуры, наследием эллинистической или какой-либо другой цивилизации, какими-либо формами культуры, характерными только для культуры Востока. Впрочем, термин "восточный" говорит сразу о слишком многом: Восток в сфере культуры многообразнее Запада. Что общего между эллинизмом и русской культурой, хотя русское христианство - византийского происхождения? Православие стало закваской слишком многих и различных культур, чтобы его можно было рассматривать как "форму культуры" восточного христианства: формы эти различны, а вера - едина. Православие никогда не противопоставляло национальным культурам такой культуры, которую можно было бы назвать специфически православной. Вот почему его миссионерская деятельность могла так удивительно развиваться: христианизация России Х и XI столетий, а затем - проповедь Евангелия по всей Азии. К концу XVIII века православные миссионеры достигают Алеутских островов и Аляски, переходят затем в Северную Америку, создавая новые епархии Русской Церкви за пределами России и распространяя христианство в Китае и Японии. Антропологическое и культурное различие - от Греции до Дальнего Востока, от Египта до Северного Ледовитого океана - не нарушает однородного характера этой духовной семейственности, весьма отличной от духовной семьи христианского Запада.
Если часто наблюдается склонность умалять значение тех догматических данных, которые определили все дальнейшее развитие традиций обеих Церквей, то это объясняется известным бесчувствием к самому догмату, который рассматривается как нечто внешнее и абстрактное. Нам часто говорят, что важна только духовная настроенность, что догматическая разница ничего не меняет. Тем не менее духовная жизнь и догмат, мистика и богословие нераздельно связаны в жизни Церкви. Что же касается Восточной Церкви, то она, как мы уже говорили, не делает особо четкого различия между богословием и мистикой, между областью общей веры и сферой личного опыта. Итак, если мы хотим говорить о мистическом богословии восточного предания, мы не можем говорить о нем иначе, как только в рамках догматического учения Православной Церкви.
Прежде чем перейти к нашей теме, необходимо сказать несколько слов о Православной Церкви, которую и сейчас еще мало знают на Западе. Отец Конгар в своей во многих отношениях ценной книге "Разделенные христиане" ("Chretiens desunis"), на страницах, посвященных Православию, несмотря на все его старания быть объективным, остается тем не менее зависимым от предвзятости известных воззрений на Православную Церковь: "В то время, как Запад, - говорит он, - на основе одновременно развернутой и определенной августиновской идеологии требует для Церкви присущей ей жизненной и организационной самостоятельности и в этом плане проводит основание линии очень положительной экклезиологии, Восток на практике, а иногда даже и в теории, допускает в социальной и человеческой реальности Церкви принцип политического единства, принцип не религиозный, частный, и не подлинно вселенский" [4]. Отцу Конгару, как и большинству высказывавшихся по этому поводу католических и протестантских авторов, Православие представляется федерацией национальных Церквей, обоснованных политическими принципами, то есть Церковью какого-либо государства. Только не зная канонических основ и истории Церкви, можно пойти на риск подобных обобщений. Мысль, что единство какой-либо поместной Церкви обосновано политическим, этническим или культурным началом, считается в Православной Церкви ересью, имеющей специальное название: филетизм [5]. Именно территория Церкви, земля, освященная более или менее древней христианской традицией, и является "базой" митрополичьего округа, управляемого архиепископом или митрополитом, с своими епископами для каждого диоцеза, которые время от времени собираются на собор. Если митрополичьи округи соединяются и образуют поместные Церкви под юрисдикцией епископа, который часто именуется патриархом, то опять-таки общность поместных церковных традиции, общая судьба, а также и удобные условия для созыва собора являются основными причинами образования этих крупных юрисдикционных округов, территория которых не обязательно соответствует политическим границам [6]. Патриарх Константинопольский пользуется некоторым первенством чести и иногда является судьей в разногласиях, хотя вся совокупность Вселенской Церкви в его юрисдикцию не входит. Поместные Восточные Церкви были примерно в таких же отношениях с Римским апостольским патриархатом, первым престолом Церкви до ее разделения и символом ее единства.
Церковное единство выражает себя в общении поместных Церквей, в принятии всеми Церквами постановлений поместного Собора, приобретающего тем самым значение Собора Вселенского и, наконец, в исключительном случае это единство может проявляться созывом всеобщего Собора [7]. Кафоличность Церкви, отнюдь не являясь "привилегией" какого-либо одного престола или одного определенного церковного центра, осуществляется скорее в богатстве и многообразии поместных преданий, единодушно свидетельствующих о единой истине, о том, что хранится всегда, повсюду и всеми. Поскольку Церковь кафолична в каждой из своих частей, постольку каждый из ее членов - не только клирик, но и каждый мирянин - призывается исповедывать и защищать истину, противясь даже епископам, если они впадают в ересь. Христианин, получивший дары Духа Святого в таинстве миропомазания, не может не быть сознательным в своей вере. Он всегда ответствен за Церковь. Отсюда - временами неспокойный и бурный аспект церковной жизни, характерный для Византии, России и других стран православного мира. Но это - признаки религиозной жизнеспособности, интенсивности духовной жизни, глубоко затрагивающей весь верующий народ, объединенный сознанием, что он образует единое тело с церковной иерархией. Отсюда и та непобедимая сила, благодаря которой Православие проходит через все испытания, все бедствия и потрясения, всегда применяясь к новой исторической действительности и оказываясь сильнее всяких внешних условий. Православная Церковь хотя и называется обычно Восточной, считает себя тем не менее Церковью Вселенской. И это верно в том смысле, что она не ограничена сферой определенной культуры, наследием эллинистической или какой-либо другой цивилизации, какими-либо формами культуры, характерными только для культуры Востока. Впрочем, термин "восточный" говорит сразу о слишком многом: Восток в сфере культуры многообразнее Запада. Что общего между эллинизмом и русской культурой, хотя русское христианство - византийского происхождения? Православие стало закваской слишком многих и различных культур, чтобы его можно было рассматривать как "форму культуры" восточного христианства: формы эти различны, а вера - едина. Православие никогда не противопоставляло национальным культурам такой культуры, которую можно было бы назвать специфически православной. Вот почему его миссионерская деятельность могла так удивительно развиваться: христианизация России Х и XI столетий, а затем - проповедь Евангелия по всей Азии. К концу XVIII века православные миссионеры достигают Алеутских островов и Аляски, переходят затем в Северную Америку, создавая новые епархии Русской Церкви за пределами России и распространяя христианство в Китае и Японии. Антропологическое и культурное различие - от Греции до Дальнего Востока, от Египта до Северного Ледовитого океана - не нарушает однородного характера этой духовной семейственности, весьма отличной от духовной семьи христианского Запада.
троллинг и хула удалены
Инезилья пишет:
Молчание - знак согласия?
Значит, ты считаешь, что Святой Феофан прав и убивать сторонников Дарвина не только можно, но и нужно. А государство у нас сатанинское, аборты вот разрешает, стало быть. Законы этого государства христианину не указ. Так почему ты никого не убила за убеждения? Боишься тюрьмы? Не хочешь стать христианской мученицей?
А плакать не буду, ты мне не начальница, так нефиг командовать. И каяться никогда не буду, каются виноватые, а я во всем права.
Права, права....

Инезилья, бан 1 день за троллинг и оправдания убийств.
Православие отличается большим разнообразием форм своей духовной жизни, из которых наиболее классической остается монашество. Однако, в противоположность монашеству западному, монашество восточное не состоит из множества различных орденов. Это объясняется самим пониманием монашеской жизни, целью которой может быть одно только соединение с Богом при полном отречении от жизни мира сего. Если белое духовенство (женатые священники и диаконы) или братства мирян могут заниматься социальными делами или посвящать себя каким-либо другим видам внешней деятельности, то иное дело для монахов. Монах принимает постриг прежде всего для того, чтобы заниматься молитвой, внутренним деланием в монастыре или скиту. Между общежительным монастырем и уединением отшельника, продолжающего традицию отцов-пустынножителей, имеется несколько промежуточных этапов монашеской жизни. Можно было бы вообще сказать что восточное монашество чисто созерцательного характера, если бы различие между обоими путями - созерцательным и деятельным - имело на Востоке тот же смысл, что и на Западе. В действительности же в Восточной Церкви оба пути друг от друга неотделимы: один путь немыслим без другого, ибо аскетическое совершенствование, школа внутренней молитвы именуется духовным деланием. Если монахи и занимаются иногда физическим трудом, то это главным образом в целях аскетических: сокрушать непослушливость природы и избегать праздности - врага духовной жизни. Чтобы достигнуть соединения с Богом в той мере, в какой оно осуществимо в земной жизни, необходимо постоянное усилие или, точнее, непрестанное бодрствование, дабы целостность внутреннего человека, "единение сердца и ума", говоря языком православной аскезы, противоборствовало всем козням врага, всем неразумным движениям падшей человеческой природы. Человеческая природа должна изменяться, должна все более и более благодатно преображаться на пути своего освящения, которое есть не только освящение духовное, но и телесное, а потому и космическое. Духовный подвиг живущего вдали от мира киновита или анахорета, даже если он и останется для всех невидимым, имеет значение для всего мира. Поэтому так и почитались монастыри во всех странах православного мира.
Крупные очаги духовной жизни имели исключительное значение не только в жизни церковной, но и в области политики и культуры. Монастыри Синая и Студийский, близ Константинополя, "монастырская республика" на Афоне, объединяющая иноков всех наций (включая и монахов латинской Церкви до разделения), другие крупные центры вне Византийской империи, как монастырь Тырново в Болгарии и великие Лавры России - Печерская в Киеве и Троице-Сергиевская под Москвой - были оплотом Православия, школами духовной жизни, религиозное и нравственное влияние которых было огромным для христианского воспитания новообращенных народов [8]. Но если монашеский идеал так захватывал человеческие души, то само монашество не было единственной формой духовной жизни, которую Церковь предлагала верующим. Путем единения с Богом можно следовать во всех условиях человеческой жизни и вне монастырей. Внешние формы могут изменяться, монастыри могут исчезать, как почти исчезли они сейчас в России, но духовная жизнь продолжается с той же интенсивностью и находит новые способы самовыражения.
Исключительно богатая восточная агиография наряду с житиями святых-монахов приводит много примеров духовного совершенства, достигнутого в миру простыми мирянами, людьми, живущими в браке. Она говорит также о странных и необычных путях святости, о "Христа ради юродивых", совершающих нелепые поступки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее, вырваться из уз мира сего в их наиболее глубоком и наименее приемлемом для разума смысле - освободиться от уз своего социального "я" [9]. Соединенность с Богом выражается иногда в харизматических дарах, как, например, в даре духовного руководства "старцев". Чаще всего это монахи, проведшие многие годы своей жизни в молитве, ушедшие от мира в затвор, и под конец жизни широко распахнувшие перед всеми двери своих келлий. Они имеют дар проникновения в сокровеннейшие глубины человеческой совести, обнаруживая в них грехи и трудности, о которых чаще всего мы сами не знаем, они поддерживают поникшие души, наставляя их не только на пути духовном, во также и руководя ими на всех путях житейских [10].
Личный опыт великих мистиков Православной Церкви чаще всего нам неизвестен. За редким исключением в духовной литературе православного Востока нет таких автобиографических рассказов о своей внутренней жизни, как у святой Анжелы из Фолиньо, Генриха Сузо или святой Терезы из Лизье в ее "Истории одной души". Путь мистического соединения с Богом - почти всегда тайна между Богом и душой, которая не раскрывается перед посторонними, разве только перед духовником или некоторыми учениками. Если что и оглашается, то лишь плоды этого соединения: мудрость, познание Божественных тайн, выраженные в богословском или нравственном учении, в советах и назиданиях братии. Что же касается самого внутреннего и личного опыта он сокрыт от всех взоров. Нужно признать, что мистический индивидуализм и в западной литературе появляется довольно поздно, примерно в XIII веке. Святой Бернард Клервоский говорит непосредственно о своем личном опыте очень редко: всего только один раз в "Слове на Песнь Песней", и то, по примеру апостола Павла, с некоторой застенчивостью. Нужно было произойти какому-то рассечению между личным опытом и общей верой, между личностной жизнью и жизнью Церкви, чтобы духовная жизнь и догмат, мистика и богословие стали двумя различными сферами, чтобы души, не находя достаточной пищи в богословских "Суммах", с жадностью искали рассказов об индивидуальном мистическом опыте, чтобы снова окунуться в духовную атмосферу. Мистический индивидуализм остался чуждым духовному опыту Восточной Церкви.
Отец Конгар прав, когда говорит: "Мы стали различными людьми (des hommes differents). У нас один и тот же Бог, но мы перед Ним - различные люди и не можем одинаково мыслить о природе наших к Нему отношений" [11]. Но чтобы правильно судить об этом духовном различии, нам следовало бы рассмотреть его в наиболее совершенных выражениях - в типах святых Запада и Востока после разделения. Мы смогли бы тогда дать себе отчет о тесной связи, всегда существующей между догматом, исповедуемым Церковью, и духовными плодами, которые она порождает, ибо внутренний опыт христианина осуществляется в кругу, очерченном учением Церкви, в обрамлении догматов, формирующих его личность. Если политическая доктрина, преподанная политической партией, может в такой степени формировать умозрение, что появляются разные типы людей, отличающиеся друг от друга известными нравственными и психическими признаками, то тем более религиозный догмат может изменять самый ум того, кто его исповедует: такие люди отличаются от тех, что формировались на основе иной догматической концепции. Мы никогда не могли бы понять аспекта духовности какой-нибудь жизни, если бы не учитывали догматического учения, лежащего в ее основе. Нужно принимать вещи такими, какими они есть, и не пытаться объяснять разницу духовной жизни па Западе и на Востоке причинами этнического или культурного порядка, когда речь идет о наиважнейшей причине - о различии догматическом. Не нужно также убеждать себя в том, что вопрос об исхождении Святого Духа или же вопрос о природе благодати не имеет большого значения для христианского учения в целом, якобы остающегося более или менее одинаковым и для римских католиков и для православных. В таких основных догматах именно это "более или менее" и важно, ибо оно придает различный уклон всему учению, представляет его в ином свете, иными словами - порождает иную духовную жизнь.
Мы не хотим заниматься ни "сравнительным богословием", ни тем более возобновлять вероисповедную полемику. Мы ограничиваемся здесь только тем, что, прежде чем перейти к обозрению некоторых аспектов богословия, лежащих в основе духовной жизни Восточной Церкви, констатируем самый факт догматического различия между христианскими Востоком и Западом. Нашим читателям решать, в какой мере эти богословские аспекты православной мистики могут помочь понять духовную жизнь, чуждую западному христианству. Если, оставаясь верными своим догматическим позициям, мы могли бы дойти до взаимного понимания, в особенности в том, что нас друг от друга отличает, это было бы, конечно, более верным путем к соединению, чем тот, который проходил бы мимо этих различий. Ибо, говоря словами Карла Барта, "соединение Церквей не создают, но обнаруживают" [12].
Крупные очаги духовной жизни имели исключительное значение не только в жизни церковной, но и в области политики и культуры. Монастыри Синая и Студийский, близ Константинополя, "монастырская республика" на Афоне, объединяющая иноков всех наций (включая и монахов латинской Церкви до разделения), другие крупные центры вне Византийской империи, как монастырь Тырново в Болгарии и великие Лавры России - Печерская в Киеве и Троице-Сергиевская под Москвой - были оплотом Православия, школами духовной жизни, религиозное и нравственное влияние которых было огромным для христианского воспитания новообращенных народов [8]. Но если монашеский идеал так захватывал человеческие души, то само монашество не было единственной формой духовной жизни, которую Церковь предлагала верующим. Путем единения с Богом можно следовать во всех условиях человеческой жизни и вне монастырей. Внешние формы могут изменяться, монастыри могут исчезать, как почти исчезли они сейчас в России, но духовная жизнь продолжается с той же интенсивностью и находит новые способы самовыражения.
Исключительно богатая восточная агиография наряду с житиями святых-монахов приводит много примеров духовного совершенства, достигнутого в миру простыми мирянами, людьми, живущими в браке. Она говорит также о странных и необычных путях святости, о "Христа ради юродивых", совершающих нелепые поступки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее, вырваться из уз мира сего в их наиболее глубоком и наименее приемлемом для разума смысле - освободиться от уз своего социального "я" [9]. Соединенность с Богом выражается иногда в харизматических дарах, как, например, в даре духовного руководства "старцев". Чаще всего это монахи, проведшие многие годы своей жизни в молитве, ушедшие от мира в затвор, и под конец жизни широко распахнувшие перед всеми двери своих келлий. Они имеют дар проникновения в сокровеннейшие глубины человеческой совести, обнаруживая в них грехи и трудности, о которых чаще всего мы сами не знаем, они поддерживают поникшие души, наставляя их не только на пути духовном, во также и руководя ими на всех путях житейских [10].
Личный опыт великих мистиков Православной Церкви чаще всего нам неизвестен. За редким исключением в духовной литературе православного Востока нет таких автобиографических рассказов о своей внутренней жизни, как у святой Анжелы из Фолиньо, Генриха Сузо или святой Терезы из Лизье в ее "Истории одной души". Путь мистического соединения с Богом - почти всегда тайна между Богом и душой, которая не раскрывается перед посторонними, разве только перед духовником или некоторыми учениками. Если что и оглашается, то лишь плоды этого соединения: мудрость, познание Божественных тайн, выраженные в богословском или нравственном учении, в советах и назиданиях братии. Что же касается самого внутреннего и личного опыта он сокрыт от всех взоров. Нужно признать, что мистический индивидуализм и в западной литературе появляется довольно поздно, примерно в XIII веке. Святой Бернард Клервоский говорит непосредственно о своем личном опыте очень редко: всего только один раз в "Слове на Песнь Песней", и то, по примеру апостола Павла, с некоторой застенчивостью. Нужно было произойти какому-то рассечению между личным опытом и общей верой, между личностной жизнью и жизнью Церкви, чтобы духовная жизнь и догмат, мистика и богословие стали двумя различными сферами, чтобы души, не находя достаточной пищи в богословских "Суммах", с жадностью искали рассказов об индивидуальном мистическом опыте, чтобы снова окунуться в духовную атмосферу. Мистический индивидуализм остался чуждым духовному опыту Восточной Церкви.
Отец Конгар прав, когда говорит: "Мы стали различными людьми (des hommes differents). У нас один и тот же Бог, но мы перед Ним - различные люди и не можем одинаково мыслить о природе наших к Нему отношений" [11]. Но чтобы правильно судить об этом духовном различии, нам следовало бы рассмотреть его в наиболее совершенных выражениях - в типах святых Запада и Востока после разделения. Мы смогли бы тогда дать себе отчет о тесной связи, всегда существующей между догматом, исповедуемым Церковью, и духовными плодами, которые она порождает, ибо внутренний опыт христианина осуществляется в кругу, очерченном учением Церкви, в обрамлении догматов, формирующих его личность. Если политическая доктрина, преподанная политической партией, может в такой степени формировать умозрение, что появляются разные типы людей, отличающиеся друг от друга известными нравственными и психическими признаками, то тем более религиозный догмат может изменять самый ум того, кто его исповедует: такие люди отличаются от тех, что формировались на основе иной догматической концепции. Мы никогда не могли бы понять аспекта духовности какой-нибудь жизни, если бы не учитывали догматического учения, лежащего в ее основе. Нужно принимать вещи такими, какими они есть, и не пытаться объяснять разницу духовной жизни па Западе и на Востоке причинами этнического или культурного порядка, когда речь идет о наиважнейшей причине - о различии догматическом. Не нужно также убеждать себя в том, что вопрос об исхождении Святого Духа или же вопрос о природе благодати не имеет большого значения для христианского учения в целом, якобы остающегося более или менее одинаковым и для римских католиков и для православных. В таких основных догматах именно это "более или менее" и важно, ибо оно придает различный уклон всему учению, представляет его в ином свете, иными словами - порождает иную духовную жизнь.
Мы не хотим заниматься ни "сравнительным богословием", ни тем более возобновлять вероисповедную полемику. Мы ограничиваемся здесь только тем, что, прежде чем перейти к обозрению некоторых аспектов богословия, лежащих в основе духовной жизни Восточной Церкви, констатируем самый факт догматического различия между христианскими Востоком и Западом. Нашим читателям решать, в какой мере эти богословские аспекты православной мистики могут помочь понять духовную жизнь, чуждую западному христианству. Если, оставаясь верными своим догматическим позициям, мы могли бы дойти до взаимного понимания, в особенности в том, что нас друг от друга отличает, это было бы, конечно, более верным путем к соединению, чем тот, который проходил бы мимо этих различий. Ибо, говоря словами Карла Барта, "соединение Церквей не создают, но обнаруживают" [12].
Проблема богопознания была коренным образом рассмотрена в небольшом сочинении, само заглавие которого знаменательно: Peri mustichV JeologiaV "О мистическом богословии". Это замечательное произведение, имевшее столь исключительное значение для всего дальнейшего развития христианской мысли, принадлежит неизвестному автору так называемых "Ареопагитик", личности, которую долгое время принимали за ученика апостола Павла - Дионисия Ареопагита. Но защитникам этого мнения пришлось учесть одно странное обстоятельство: об "Ареопагитиках" до начала VI века то есть в течение почти пяти веков, ничего но было слышно; на них не ссылался и о них не упоминал ни один церковный писатель. Впервые их огласили еретики-монофизиты, пытавшиеся опереться на их авторитетность. В следующем веке святой Максим Исповедник вырывает это оружие из рук еретиков, раскрывая в своих комментариях или "схолиях" православный смысл дионисиевских творений [1]. Начиная с этого времени "Ареопагитики" пользуются неоспоримым авторитетом в богословском предании как Церкви Восточной, так и Западной.
Современные критики, которые никак не могут прийти к какому-то соглашению по поводу подлинной личности псевдо-Дионисия и времени написания его произведений, теряются в самых разнообразных гипотезах [2]. Колебания критических исследований между III и VI веками показывают, как до сих пор неточны сведения, относящиеся к происхождению этих таинственных произведений. Но каковы бы ни были результаты всех исследований, они ни в чем не могут умалить богословского значения "Ареопагитик". С этой точки зрения не столь важно знать, кто был их автором; основное в этом вопросе - суждение Церкви о содержании самих произведений и то, как она ими пользуется. Ведь говорит же апостол Павел, ссылаясь на псалом Давида: "Некто негде засвидетельствовал" (Евр. 2, 6), показывая тем самым, до какой степени второстепенен вопрос авторства, когда речь идет о тексте, внушенном Духом Святым. Что правильно для Священного Писания, то столь же правильно для богословского предания Церкви.
Дионисий различает возможность двух богословских путей: один есть путь утверждения (богословие катафатическое или положительное), другой - путь отрицания (богословие апофатическое или отрицательное). Первый ведет нас к некоторому знанию о Боге, - это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию, - это путь совершенный и единственно по своей природе подобающий Непознаваемому, ибо всякое познание имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов всего существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо отвергнуть все, что ниже Его, то есть все существующее. Если, видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога самого по себе мы видим, а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее. Только путем неведения (agnwsia) можно познать Того, Кто превыше всех возможных объектов познания. Идя путем отрицания, мы подымаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы в мраке полного неведения приблизиться к Неведомому. Ибо, подобно тому, как свет - в особенности свет обильный - рассеивает мрак, так и знание вещей тварных - в особенности же знание излишнее - уничтожает незнание, которое и есть единственный путь постижения Бога в Нем Самом [3].
Если перенести установленное Дионисием различие между богословием положительным и отрицательным на уровень диалектики, то оказываешься перед антиномией. И здесь, стараясь ее разрешить, пытаются синтезировать оба противоположных метода богопознания и свести их к единому. Так, святой Фома Аквинский сводит оба пути Дионисия к одному, превращая отрицательное богословие в корректив к положительному. Приписывая Богу совершенства, которые мы находим в существах тварных, мы должны, по мысли святого Фомы, отрицать модус нашего понимания этих ограниченных совершенств, но мы можем их утверждать по отношению к Богу модусом более высоким, modus sublimiori. Таким образом, отрицания будут относиться к modue significandi, модусу выражения - всегда неточному, а утверждения - к res significata, к вещам совершенным, которые мы желаем выразить и которые пребывают в Боге иным образом, чем в твари [4]. Можно задать вопрос: в какой мере это столь остроумное философское измышление соответствует мысли Дионисия? Если для автора "Ариопагитик" между этими двумя и для него различными богословиями существует антиномия, то допускает ли он синтез обоих путей? И вообще возможно ли их противопоставлять, рассматривая с одного и того же уровня, ставя их на одну и ту же плоскость? Не говорит ли многократно Дионисий о том, что апофатическое богословие выше катафатического? Анализ трактата "О мистическом богословии", посвященного пути отрицания, покажет нам, что означает этот метод у Дионисия. В то же время этот анализ позволит нам судить об истинной природе апофатизма, являющегося основным признаком всей богословской традиция Восточной Церкви.
Дионисий начинает свои трактат [5] с призывания Святой Троицы, Которую он просит вывести его "за пределы незнания до высочайших вершин Священно-тайного Писания, туда, где в сверхлучезарном мраке молчания открываются простые, совершенные и нетленные тайны богословия". Он призывает Тимофея, которому посвящено это сочинение, к "мистическим созерцаниям" (mustica qeamata): нужно отказаться как от чувств, так и от всякой рассудочной деятельности, от всех предметов чувственных и умопостигаемых; как от всего, что имеет бытие, так и от всего, что бытия не имеет, для того чтобы в полном неведении достигнуть соединения с Тем Кто превосходит всякое бытие и всякое познание. Мы сразу же видим, что речь идет не просто о какой-то диалектической процедуре, а о чем-то ином. Необходимо очищение, caqarsiz, надо отбросить все нечистое и даже все чистое; затем надо достигнуть высочайших вершин святости, оставив позади себя все Божественные озарения, все небесные звуки и слова. Только тогда проникаешь в тот мрак, в котором пребывает Тот, Кто за пределом всяческого [6].
Этот путь восхождения, на котором мы постепенно освобождаемся от власти всего, что доступно познанию, Дионисий сравнивает с восхождением Моисея на гору Синай для встречи с Богом. Моисей начинает с очищения, затем он отделяет себя от нечистых; он слышит "звук труб весьма сильный, видит множество огней, бесчисленные лучи которых распространяют яркий блеск; затем, отделившись от толпы, он достигает с избранными священниками вершины Божественного восхождения. Однако и на этом уровне он еще не в общении с Богом, он не созерцает Его, ибо видит не Бога, а только то место, где Он пребывает. Мне кажется, это означает, что в порядке видимого и в порядке умопостижимого самое Божественное и высочайшее является одним только предположительным основанием свойств, действительно подобающих Тому, Кто абсолютно трансцендентен; оно лишь возвещает о присутствии Того, Кто совершенно не может быть объят умом, Кто пребывает превыше умопостижимых вершин святейших мест Своего пребывания. И только тогда, перейдя за пределы мира видимых и видящих (twn orwmenwn kai twn orwntwn), Моисей проникает в истинно-мистический мрак неведения; только там он заставляет умолкнуть в себе всякое положительное знание; только там он всецело освобождается от всякого чувства и всякого видения, ибо он всецело принадлежит Тому, Кто за пределами всего, ибо он не принадлежит больше ни себе и ни чему-либо чуждому, ибо, соединившись тем, что в нем лучшего, с Тем, Кто не подлежит никакому познанию, он отказывается от всякого положительного знания и благодаря незнанию познает превыше ума познающего(kaity, meden ginwscein, uper noun ginwskwg)" [7].
Современные критики, которые никак не могут прийти к какому-то соглашению по поводу подлинной личности псевдо-Дионисия и времени написания его произведений, теряются в самых разнообразных гипотезах [2]. Колебания критических исследований между III и VI веками показывают, как до сих пор неточны сведения, относящиеся к происхождению этих таинственных произведений. Но каковы бы ни были результаты всех исследований, они ни в чем не могут умалить богословского значения "Ареопагитик". С этой точки зрения не столь важно знать, кто был их автором; основное в этом вопросе - суждение Церкви о содержании самих произведений и то, как она ими пользуется. Ведь говорит же апостол Павел, ссылаясь на псалом Давида: "Некто негде засвидетельствовал" (Евр. 2, 6), показывая тем самым, до какой степени второстепенен вопрос авторства, когда речь идет о тексте, внушенном Духом Святым. Что правильно для Священного Писания, то столь же правильно для богословского предания Церкви.
Дионисий различает возможность двух богословских путей: один есть путь утверждения (богословие катафатическое или положительное), другой - путь отрицания (богословие апофатическое или отрицательное). Первый ведет нас к некоторому знанию о Боге, - это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию, - это путь совершенный и единственно по своей природе подобающий Непознаваемому, ибо всякое познание имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов всего существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо отвергнуть все, что ниже Его, то есть все существующее. Если, видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога самого по себе мы видим, а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее. Только путем неведения (agnwsia) можно познать Того, Кто превыше всех возможных объектов познания. Идя путем отрицания, мы подымаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы в мраке полного неведения приблизиться к Неведомому. Ибо, подобно тому, как свет - в особенности свет обильный - рассеивает мрак, так и знание вещей тварных - в особенности же знание излишнее - уничтожает незнание, которое и есть единственный путь постижения Бога в Нем Самом [3].
Если перенести установленное Дионисием различие между богословием положительным и отрицательным на уровень диалектики, то оказываешься перед антиномией. И здесь, стараясь ее разрешить, пытаются синтезировать оба противоположных метода богопознания и свести их к единому. Так, святой Фома Аквинский сводит оба пути Дионисия к одному, превращая отрицательное богословие в корректив к положительному. Приписывая Богу совершенства, которые мы находим в существах тварных, мы должны, по мысли святого Фомы, отрицать модус нашего понимания этих ограниченных совершенств, но мы можем их утверждать по отношению к Богу модусом более высоким, modus sublimiori. Таким образом, отрицания будут относиться к modue significandi, модусу выражения - всегда неточному, а утверждения - к res significata, к вещам совершенным, которые мы желаем выразить и которые пребывают в Боге иным образом, чем в твари [4]. Можно задать вопрос: в какой мере это столь остроумное философское измышление соответствует мысли Дионисия? Если для автора "Ариопагитик" между этими двумя и для него различными богословиями существует антиномия, то допускает ли он синтез обоих путей? И вообще возможно ли их противопоставлять, рассматривая с одного и того же уровня, ставя их на одну и ту же плоскость? Не говорит ли многократно Дионисий о том, что апофатическое богословие выше катафатического? Анализ трактата "О мистическом богословии", посвященного пути отрицания, покажет нам, что означает этот метод у Дионисия. В то же время этот анализ позволит нам судить об истинной природе апофатизма, являющегося основным признаком всей богословской традиция Восточной Церкви.
Дионисий начинает свои трактат [5] с призывания Святой Троицы, Которую он просит вывести его "за пределы незнания до высочайших вершин Священно-тайного Писания, туда, где в сверхлучезарном мраке молчания открываются простые, совершенные и нетленные тайны богословия". Он призывает Тимофея, которому посвящено это сочинение, к "мистическим созерцаниям" (mustica qeamata): нужно отказаться как от чувств, так и от всякой рассудочной деятельности, от всех предметов чувственных и умопостигаемых; как от всего, что имеет бытие, так и от всего, что бытия не имеет, для того чтобы в полном неведении достигнуть соединения с Тем Кто превосходит всякое бытие и всякое познание. Мы сразу же видим, что речь идет не просто о какой-то диалектической процедуре, а о чем-то ином. Необходимо очищение, caqarsiz, надо отбросить все нечистое и даже все чистое; затем надо достигнуть высочайших вершин святости, оставив позади себя все Божественные озарения, все небесные звуки и слова. Только тогда проникаешь в тот мрак, в котором пребывает Тот, Кто за пределом всяческого [6].
Этот путь восхождения, на котором мы постепенно освобождаемся от власти всего, что доступно познанию, Дионисий сравнивает с восхождением Моисея на гору Синай для встречи с Богом. Моисей начинает с очищения, затем он отделяет себя от нечистых; он слышит "звук труб весьма сильный, видит множество огней, бесчисленные лучи которых распространяют яркий блеск; затем, отделившись от толпы, он достигает с избранными священниками вершины Божественного восхождения. Однако и на этом уровне он еще не в общении с Богом, он не созерцает Его, ибо видит не Бога, а только то место, где Он пребывает. Мне кажется, это означает, что в порядке видимого и в порядке умопостижимого самое Божественное и высочайшее является одним только предположительным основанием свойств, действительно подобающих Тому, Кто абсолютно трансцендентен; оно лишь возвещает о присутствии Того, Кто совершенно не может быть объят умом, Кто пребывает превыше умопостижимых вершин святейших мест Своего пребывания. И только тогда, перейдя за пределы мира видимых и видящих (twn orwmenwn kai twn orwntwn), Моисей проникает в истинно-мистический мрак неведения; только там он заставляет умолкнуть в себе всякое положительное знание; только там он всецело освобождается от всякого чувства и всякого видения, ибо он всецело принадлежит Тому, Кто за пределами всего, ибо он не принадлежит больше ни себе и ни чему-либо чуждому, ибо, соединившись тем, что в нем лучшего, с Тем, Кто не подлежит никакому познанию, он отказывается от всякого положительного знания и благодаря незнанию познает превыше ума познающего(kaity, meden ginwscein, uper noun ginwskwg)" [7].
Согласно православному учению Бог является одновременно и трансцендентным и имманентным. У В. Н. Лосского есть такие красивые слова: «в имманентности Откровения Бог утверждает Себя трансцендентным творению», то есть, открывая Себя в энергиях Бог тем самым утверждает, что по существу Он является неприступным.
В силу этого существуют два тесно взаимосвязанных пути богопознания. Еще дохристианские авторы, в частности, неоплатоники, знали, что попытка мыслить Бога в Нем Самом в конечном счете повергает человека в молчание, все словесные выражения и понятия, которые, определяя, неизбежно ограничивают предмет познания, не могут нам позволить объять бесконечное.
Иначе говоря, опыт богопознания в своем пределе неизъясним. А, следовательно, законным является путь отрицания, путь апофатический, то есть стремление познать Бога не в том, что Он есть, то есть не в соответствии с нашим тварным опытом, — а в том, что Он не есть.
Путь апофатического богословия есть прежде всего путь практический. Цель апофатического богословия — личное соединение с Живым Богом. Этот путь восхождения к Богу предполагает последовательное отрицание подвижником за Богом всех свойств и качеств, так или иначе свойственных тварному естеству. Для своего восхождения человек должен устранить из своего ума представление о всем тварном, причем не только о материальном, но также и о духовном отречься и от самых возвышенных понятий, таких, как любовь, мудрость и даже самое бытие!
Путь апофатического восхождения к Богу — путь аскетический, который предполагает со стороны человека очищение и позволяет достичь таинственного соединения с Личным Богом в состоянии экстасиса.
Знание, полученное в состоянии экстасиса, является в полном смысле апофатическим. Человек, достигая неизреченного состояния единства с Богом, действительно получает некоторое знание о Боге, как бы непосредственно зрит Его, но когда он выходит из этого состояния, обнаруживается, что нет в человеческом языке таких средств, которые позволили бы выразить этот опыт. И говорить об этом опыте можно только чисто отрицательно, как это и сделал апостол Павел, когда говорил, конечно, имея в виду себя самого, что знает человека, который был восхищен до третьего неба и видел там то, чего не видел глаз, слышал чего не слышало ухо, и чувствовал то что не приходило на сердце человеку.
Бог — это не только некая сущность, как мыслят Бога нехристианские мистики, но еще и Личность, которая Сама Себя открывает человеку в Своих действиях или энергиях.
Священное Писание, в соответствии с этими энергиями Божества, образует имена, которыми мы и пользуемся, когда рассуждаем о Боге: благость, любовь, мудрость, жизнь, правда и т. д. Эти имена, ни каждое в отдельности, ни все вместе, не исчерпывают Божественную сущность, они говорят лишь о том, что относится к сущности. Если предположить обратное, что Бог определяется Своими атрибутами, Своими свойствами и качествами, тогда должно признать, что Бог не является абсолютной Личностью, а определяется посредством характеристик собственной природы.
Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении не является последней ступенью, за ней открываются новые возможности для дальнейшего восхождения.
Таким образом, катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей, по ступеням которой человек свое восхождение совершает. Также и апофатическое богословие имеет определенное значение для богословия катафатического. В. Н. Лосский поясняет эту мысль следующим образом: «Постоянное памятование о пути апофатическом должно очищать наши понятия и не позволять им замыкаться в своих ограниченных значениях».
В силу этого существуют два тесно взаимосвязанных пути богопознания. Еще дохристианские авторы, в частности, неоплатоники, знали, что попытка мыслить Бога в Нем Самом в конечном счете повергает человека в молчание, все словесные выражения и понятия, которые, определяя, неизбежно ограничивают предмет познания, не могут нам позволить объять бесконечное.
Иначе говоря, опыт богопознания в своем пределе неизъясним. А, следовательно, законным является путь отрицания, путь апофатический, то есть стремление познать Бога не в том, что Он есть, то есть не в соответствии с нашим тварным опытом, — а в том, что Он не есть.
Путь апофатического богословия есть прежде всего путь практический. Цель апофатического богословия — личное соединение с Живым Богом. Этот путь восхождения к Богу предполагает последовательное отрицание подвижником за Богом всех свойств и качеств, так или иначе свойственных тварному естеству. Для своего восхождения человек должен устранить из своего ума представление о всем тварном, причем не только о материальном, но также и о духовном отречься и от самых возвышенных понятий, таких, как любовь, мудрость и даже самое бытие!
Путь апофатического восхождения к Богу — путь аскетический, который предполагает со стороны человека очищение и позволяет достичь таинственного соединения с Личным Богом в состоянии экстасиса.
Знание, полученное в состоянии экстасиса, является в полном смысле апофатическим. Человек, достигая неизреченного состояния единства с Богом, действительно получает некоторое знание о Боге, как бы непосредственно зрит Его, но когда он выходит из этого состояния, обнаруживается, что нет в человеческом языке таких средств, которые позволили бы выразить этот опыт. И говорить об этом опыте можно только чисто отрицательно, как это и сделал апостол Павел, когда говорил, конечно, имея в виду себя самого, что знает человека, который был восхищен до третьего неба и видел там то, чего не видел глаз, слышал чего не слышало ухо, и чувствовал то что не приходило на сердце человеку.
Бог — это не только некая сущность, как мыслят Бога нехристианские мистики, но еще и Личность, которая Сама Себя открывает человеку в Своих действиях или энергиях.
Священное Писание, в соответствии с этими энергиями Божества, образует имена, которыми мы и пользуемся, когда рассуждаем о Боге: благость, любовь, мудрость, жизнь, правда и т. д. Эти имена, ни каждое в отдельности, ни все вместе, не исчерпывают Божественную сущность, они говорят лишь о том, что относится к сущности. Если предположить обратное, что Бог определяется Своими атрибутами, Своими свойствами и качествами, тогда должно признать, что Бог не является абсолютной Личностью, а определяется посредством характеристик собственной природы.
Между двумя путями богопознания, апофатическим и катафатическим, существует тесная связь. Катафатическое богословие есть опора апофатического восхождения. В Своих действиях Бог открывает Себя человеку и тем самым делает возможным богопознание, но каждая ступень, которая достигается в этом восхождении не является последней ступенью, за ней открываются новые возможности для дальнейшего восхождения.
Таким образом, катафатическое богословие имеет практическое значение для апофатического восхождения, оно является как бы некой лестницей, по ступеням которой человек свое восхождение совершает. Также и апофатическое богословие имеет определенное значение для богословия катафатического. В. Н. Лосский поясняет эту мысль следующим образом: «Постоянное памятование о пути апофатическом должно очищать наши понятия и не позволять им замыкаться в своих ограниченных значениях».
Таким образом нам становится ясно, что апофатический путь или мистическое богословие (ибо таково заглавие сочинения, посвященного методу отрицания) имеет объектом Бога абсолютно непознаваемого. Было бы даже неточным сказать, что оно имеет Бога объектом: конец приведенного нами текста показывает, что, достигнув предельных вершин познаваемого, надо освободиться как от видящего, так и от видимого, то есть как от субъекта, так и от объекта нашего восприятия. Бог уже не представляется объектом, ибо здесь речь идет не о познании, а о соединении. Итак, отрицательное богословие есть путь к мистическому соединению с Богом, природа Которого остается для нас непознаваемой.
Вторая глава "Мистического богословия" противопоставляет путь позитивный или метод положений (qeseiV), который есть нисхождение от высших ступеней бытия к его низшим ступеням, пути негативному, или методу последовательных "отвлечений" или "отлучений" (aja ireseiV), который есть восхождение к Божественной непознаваемости. В третьей главе Дионисий перечисляет свои богословские труды, классифицируя их в зависимости от их "пространности", которая увеличивается по мере нисхождения высших Божественных явлений к низшим. Трактат "О мистическом богословии" - самый короткий, ибо в нем говорится об отрицательном методе, приводящем к молчанию соединения с Богом. В главах IV и V Дионисий перечисляет целый ряд свойств, заимствованных из мира чувственного и умопостижимого, и отказывается относить их к природе Божества. Он заключает свой трактат признанием, что Причина "всяческого" ускользает как от всякого утверждения, так и всякого отрицания: "Когда мы высказываем утверждения, относящиеся к существам, стоящим ниже единой и совершенной Первопричины всего, мы ничего не утверждаем и не отрицаем о Ней Самой, ибо всякое утверждение остается вне премирности Того Кто просто совлечен всего и находится за пределами всего" [8].
Из Дионисия часто хотели сделать неоплатоника. Действительно, сравнивая экстаз Дионисия с тем, который описан Плотином в конце его VI Эннеады, нам приходится признать их поразительное сходство. Чтобы приблизиться к Единому, нужно, по Плотину, "самому отрешиться от чувственных предметов, которые являются последними из всех, и прийти обратно к предметам первичным; нужно быть свободным от всех пороков, ибо мы стремимся к Благу; нужно вернуться к своему внутреннему началу, и вместо того, чтобы быть множественным, стать единым существом, если мы хотим созерцать начало и Единое" [9]. Это есть первая ступень восхождения, на которой мы освобождаемся от чувственного и сосредоточиваем себя в уме. Но необходимо превзойти ум, ибо речь идет о достижении предмета, который выше его. "Действительно, ум есть нечто и является существом; но этот предел не есть что-то, ибо он предшествует всему; он также не существо, ибо существо имеет какую-то форму, которая является формой бытия; но это понятие лишено всякой формы, даже сверхчувственной. Ибо, если природа Единого порождает все, она не может быть ничем тем, что она порождает" [10]. К этой природе подходят отрицательные определения, напоминающие определения "Мистического богословия" Дионисия: "Это не вещь; она не имеет ни качества, ни количества; это не ум и не душа; она не находится ни в движении и ни в покое, она не пребывает ни в пространстве и ни во времени. Она есть сама по себе сущность, отделенная от других, или, вернее, она лишена сущности, ибо она существует прежде всякой сущности, прежде движения и прежде покоя; ибо эти свойства заключаются в бытии и делают его множественным" [11].
Здесь появляется мысль, которую мы не находим у Дионисия и которая проводит демаркационную линию между мистикой христианской и философской мистикой неоплатоников. Если Плотин, пытаясь постигнуть Бога, отвергает свойства, принадлежащие бытию, то это, в отличие от Дионисия, не по причине абсолютной непознаваемости Бога, заслоненной всем тем, что может быть познаваемо о существах, но потому, что сфера бытия, даже на самых высоких своих ступенях, обязательно множественна и не имеет абсолютной простоты Единого. Бог Плотина по природе своей не непознаваем. Если нельзя понять Единого ни путем знания, ни непосредственным умопостижением, то это потому, что душа, когда она воспринимает какой-нибудь предмет путем знания, удаляется от единства и не является совершенно единой [12]. Итак, следует прибегать к экстазу, к единению, в котором человек всецело поглощается объектом и составляет с ним одно целое, где всякая множественность исчезает, где субъект больше не отличается от своего объекта: "Когда они встречаются, они образуют единицу, и становятся двоицей только тогда, когда они разлучаются. Можно ли сказать, что он - объект, отличный от нас самих, если мы в момент созерцания не видим его отделенным от нас, но только единым с нами?" [13] То, что следует устранять в отрицательном методе Плотина, - это множественность, и тогда достигается абсолютное единство, находящееся за пределами бытия, ибо бытие связано с последующей Единому множественностью.
Экстаз Дионисия есть выход из бытия как такового, экстаз Плотина есть скорее сведение бытия к абсолютной простоте. Вот почему Плотин определяет свой экстаз очень характерным наименованием - "упрощение" (aplwsiV). Это - путь сведения к простоте объекта созерцания, который может быть определен положительно как Единое и которое в этом отношении не отличается от созерцающего субъекта. Несмотря на внешнее сходство, объяснимое прежде всего общей терминологией, мы здесь далеки от отрицательного богословия "Ареопагитик". Непознаваемый по своей природе Бог Дионисия, Который, по словам псалмопевца, "мрак соделал покровом Своим" (Пс. 17, 12), не есть первичный Бог-Единство неоплатоников [14]. Если Он непознаваем, то не в силу простоты, которая не может примириться с множественностью, поражающей всякое познание, относимое к существам; это непознаваемость, можно сказать, более глубинная и более абсолютная. Действительно, если бы она была обоснована, как у Плотина, простотой Единого, Бог не был бы непознаваемым по Своей природе. Однако для Дионисия именно непознаваемость и есть единственное подобающее Богу определение, если только можно говорить здесь о "подобающих определениях". Когда Дионисий, отказываясь приписывать Богу свойства, составляющие предмет положительного богословия, говорит: "Он - не Единое и не Единство" (oude en, oude enothV), то именно и имеет в виду определение неоплатоников. В своем трактате "О Божественных именах", рассматривая приложимое к Богу имя "Единое", Дионисий показывает его недостаточность и противополагает ему Другое "наивысочайшее" имя - Святая Троица, говорящее о том, что Бог не единство и не множество, но что Он превосходит эту антиномию, будучи непознаваемым в том, что Он есть [15].
Если Бог Откровения не есть Бог философов, то именно сознание Его абсолютной непознаваемости проводит грань между двумя этими мировоззрениями. Все, что можно было сказать о "платонизме" отцов Церкви и в особенности о зависимости автора "Ареопагитик" от неоплатоников, ограничивается внешним сходством, не доходящим до глубин его учения, и объясняется терминологией, свойственной данной эпохе. Для философа-платоника, даже когда он говорит об экстатическом соединении как о единственном пути богодостижения, сама Божественная природа все же является каким-то объектом, чем-то положительно определяемым, Единым (en), природой, непознаваемость которой зиждется главным образом на немощи нашего рассудка, скованного множественностью. Это экстатическое соединение, как мы уже указывали, является скорее сведением к простоте, нежели, как у Дионисия, выходом из сферы тварного. Ибо вне Откровения для нас нет различения тварного и нетварного, нет сотворения ex nihilo, нет бездны, лежащей между Творцом и творением, которую надо нам преодолевать. Неправомыслие, в котором обвиняли Оригена, коренилось в известной нечуткости этого великого христианского мыслителя к Божественной непознаваемости; его не-апофатическая интеллектуальная позиция делала из этого наставника катехизической Александрийской школы скорее религиозного философа, нежели богослова-мистика в понимании Восточной Церкви. И действительно, по Оригену "Бога не должно считать каким-нибудь телом или пребывающим в теле, но - простого духовною природой, не допускающей в Себе никакой сложности. Он не имеет в Себе ничего большего или низшего, но есть - с какой угодно стороны - Монада (monaV) и, так сказать, Единство (enaV); Он есть Ум и в то же время источник, от которого получает начало всякая разумная природа или ум" [16]. Интересно отметить, что Ориген также не воспринимал творения ex nihilo. Понятие о Боге, Который не есть "Неведомый" Бог Священного Писания, трудно согласуется с истинами Откровения. В лице Оригена в Церковь пытался проникнуть эллинизм, мировоззрение, идущее извне, имеющее свое происхождение в человеческой природе, в образе мышления, свойственного людям - "эллинам и иудеям"; это не то Предание, в котором Бог открывает Себя Церкви и с ней говорит. Поэтому Церковь должна была бороться с оригенизмом и всегда будет бороться с учениями, которые, восставая на непознаваемость Бога, подменяют философскими понятиями опытное познание сокровенных глубин Божиих.
Вторая глава "Мистического богословия" противопоставляет путь позитивный или метод положений (qeseiV), который есть нисхождение от высших ступеней бытия к его низшим ступеням, пути негативному, или методу последовательных "отвлечений" или "отлучений" (aja ireseiV), который есть восхождение к Божественной непознаваемости. В третьей главе Дионисий перечисляет свои богословские труды, классифицируя их в зависимости от их "пространности", которая увеличивается по мере нисхождения высших Божественных явлений к низшим. Трактат "О мистическом богословии" - самый короткий, ибо в нем говорится об отрицательном методе, приводящем к молчанию соединения с Богом. В главах IV и V Дионисий перечисляет целый ряд свойств, заимствованных из мира чувственного и умопостижимого, и отказывается относить их к природе Божества. Он заключает свой трактат признанием, что Причина "всяческого" ускользает как от всякого утверждения, так и всякого отрицания: "Когда мы высказываем утверждения, относящиеся к существам, стоящим ниже единой и совершенной Первопричины всего, мы ничего не утверждаем и не отрицаем о Ней Самой, ибо всякое утверждение остается вне премирности Того Кто просто совлечен всего и находится за пределами всего" [8].
Из Дионисия часто хотели сделать неоплатоника. Действительно, сравнивая экстаз Дионисия с тем, который описан Плотином в конце его VI Эннеады, нам приходится признать их поразительное сходство. Чтобы приблизиться к Единому, нужно, по Плотину, "самому отрешиться от чувственных предметов, которые являются последними из всех, и прийти обратно к предметам первичным; нужно быть свободным от всех пороков, ибо мы стремимся к Благу; нужно вернуться к своему внутреннему началу, и вместо того, чтобы быть множественным, стать единым существом, если мы хотим созерцать начало и Единое" [9]. Это есть первая ступень восхождения, на которой мы освобождаемся от чувственного и сосредоточиваем себя в уме. Но необходимо превзойти ум, ибо речь идет о достижении предмета, который выше его. "Действительно, ум есть нечто и является существом; но этот предел не есть что-то, ибо он предшествует всему; он также не существо, ибо существо имеет какую-то форму, которая является формой бытия; но это понятие лишено всякой формы, даже сверхчувственной. Ибо, если природа Единого порождает все, она не может быть ничем тем, что она порождает" [10]. К этой природе подходят отрицательные определения, напоминающие определения "Мистического богословия" Дионисия: "Это не вещь; она не имеет ни качества, ни количества; это не ум и не душа; она не находится ни в движении и ни в покое, она не пребывает ни в пространстве и ни во времени. Она есть сама по себе сущность, отделенная от других, или, вернее, она лишена сущности, ибо она существует прежде всякой сущности, прежде движения и прежде покоя; ибо эти свойства заключаются в бытии и делают его множественным" [11].
Здесь появляется мысль, которую мы не находим у Дионисия и которая проводит демаркационную линию между мистикой христианской и философской мистикой неоплатоников. Если Плотин, пытаясь постигнуть Бога, отвергает свойства, принадлежащие бытию, то это, в отличие от Дионисия, не по причине абсолютной непознаваемости Бога, заслоненной всем тем, что может быть познаваемо о существах, но потому, что сфера бытия, даже на самых высоких своих ступенях, обязательно множественна и не имеет абсолютной простоты Единого. Бог Плотина по природе своей не непознаваем. Если нельзя понять Единого ни путем знания, ни непосредственным умопостижением, то это потому, что душа, когда она воспринимает какой-нибудь предмет путем знания, удаляется от единства и не является совершенно единой [12]. Итак, следует прибегать к экстазу, к единению, в котором человек всецело поглощается объектом и составляет с ним одно целое, где всякая множественность исчезает, где субъект больше не отличается от своего объекта: "Когда они встречаются, они образуют единицу, и становятся двоицей только тогда, когда они разлучаются. Можно ли сказать, что он - объект, отличный от нас самих, если мы в момент созерцания не видим его отделенным от нас, но только единым с нами?" [13] То, что следует устранять в отрицательном методе Плотина, - это множественность, и тогда достигается абсолютное единство, находящееся за пределами бытия, ибо бытие связано с последующей Единому множественностью.
Экстаз Дионисия есть выход из бытия как такового, экстаз Плотина есть скорее сведение бытия к абсолютной простоте. Вот почему Плотин определяет свой экстаз очень характерным наименованием - "упрощение" (aplwsiV). Это - путь сведения к простоте объекта созерцания, который может быть определен положительно как Единое и которое в этом отношении не отличается от созерцающего субъекта. Несмотря на внешнее сходство, объяснимое прежде всего общей терминологией, мы здесь далеки от отрицательного богословия "Ареопагитик". Непознаваемый по своей природе Бог Дионисия, Который, по словам псалмопевца, "мрак соделал покровом Своим" (Пс. 17, 12), не есть первичный Бог-Единство неоплатоников [14]. Если Он непознаваем, то не в силу простоты, которая не может примириться с множественностью, поражающей всякое познание, относимое к существам; это непознаваемость, можно сказать, более глубинная и более абсолютная. Действительно, если бы она была обоснована, как у Плотина, простотой Единого, Бог не был бы непознаваемым по Своей природе. Однако для Дионисия именно непознаваемость и есть единственное подобающее Богу определение, если только можно говорить здесь о "подобающих определениях". Когда Дионисий, отказываясь приписывать Богу свойства, составляющие предмет положительного богословия, говорит: "Он - не Единое и не Единство" (oude en, oude enothV), то именно и имеет в виду определение неоплатоников. В своем трактате "О Божественных именах", рассматривая приложимое к Богу имя "Единое", Дионисий показывает его недостаточность и противополагает ему Другое "наивысочайшее" имя - Святая Троица, говорящее о том, что Бог не единство и не множество, но что Он превосходит эту антиномию, будучи непознаваемым в том, что Он есть [15].
Если Бог Откровения не есть Бог философов, то именно сознание Его абсолютной непознаваемости проводит грань между двумя этими мировоззрениями. Все, что можно было сказать о "платонизме" отцов Церкви и в особенности о зависимости автора "Ареопагитик" от неоплатоников, ограничивается внешним сходством, не доходящим до глубин его учения, и объясняется терминологией, свойственной данной эпохе. Для философа-платоника, даже когда он говорит об экстатическом соединении как о единственном пути богодостижения, сама Божественная природа все же является каким-то объектом, чем-то положительно определяемым, Единым (en), природой, непознаваемость которой зиждется главным образом на немощи нашего рассудка, скованного множественностью. Это экстатическое соединение, как мы уже указывали, является скорее сведением к простоте, нежели, как у Дионисия, выходом из сферы тварного. Ибо вне Откровения для нас нет различения тварного и нетварного, нет сотворения ex nihilo, нет бездны, лежащей между Творцом и творением, которую надо нам преодолевать. Неправомыслие, в котором обвиняли Оригена, коренилось в известной нечуткости этого великого христианского мыслителя к Божественной непознаваемости; его не-апофатическая интеллектуальная позиция делала из этого наставника катехизической Александрийской школы скорее религиозного философа, нежели богослова-мистика в понимании Восточной Церкви. И действительно, по Оригену "Бога не должно считать каким-нибудь телом или пребывающим в теле, но - простого духовною природой, не допускающей в Себе никакой сложности. Он не имеет в Себе ничего большего или низшего, но есть - с какой угодно стороны - Монада (monaV) и, так сказать, Единство (enaV); Он есть Ум и в то же время источник, от которого получает начало всякая разумная природа или ум" [16]. Интересно отметить, что Ориген также не воспринимал творения ex nihilo. Понятие о Боге, Который не есть "Неведомый" Бог Священного Писания, трудно согласуется с истинами Откровения. В лице Оригена в Церковь пытался проникнуть эллинизм, мировоззрение, идущее извне, имеющее свое происхождение в человеческой природе, в образе мышления, свойственного людям - "эллинам и иудеям"; это не то Предание, в котором Бог открывает Себя Церкви и с ней говорит. Поэтому Церковь должна была бороться с оригенизмом и всегда будет бороться с учениями, которые, восставая на непознаваемость Бога, подменяют философскими понятиями опытное познание сокровенных глубин Божиих.
Именно апофатическую основу всякого истинного богословия и защищали в своих спорах с Евномием "великие каппадокийцы". Евномий утверждал, что можно выражать Божественную сущность естественными понятиями, в которых она открывается разуму. Для святого Василия Великого не только сущность Божественная, но и сущности тварные не могут быть выражены понятиями. Созерцая предметы, мы анализируем их свойства, что и позволяет нам образовывать понятия. Однако анализ никогда не может исчерпать самого содержания объектов нашего восприятия; всегда остается некий иррациональный "остаток", который от этого анализа ускользает и понятиями выражен быть не может: это - непознаваемая основа вещей, то, что составляет их истинную, неопределимую сущность. Что же касается имен, которые мы прилагаем к Богу, то они открывают нам Его энергии, которые до нас снисходят, но нас к Его неприступной сущности [17] не приближают. Для святого Григория Нисского всякое приложимое к Богу понятие есть призрак, обманчивый образ, идол. Понятия, которые мы составляем по своему естественному мнению и разумению, которые обоснованы каким-нибудь умозрительным представлением, вместо того, чтобы открывать нам Бога, создают только Его идолы [18]. Одно только имя приличествует Божественной природе: изумление, объемлющее душу, когда она мыслит о Боге [19]. Святой Григорий Богослов, цитируя Платона, не называя его ("один из эллинских богословов"), приводит одно место из "Тимея", исправляя его следующим образом: "Изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно" [20]. Эта "корректура" платоновского высказывания христианским автором, которого часто считают платоником, уже сама по себе показывает, насколько далека святоотеческая мысль от образа мыслей философов.
Апофатизм как религиозная установка в вопросе Божественной непознаваемости характерен не только для "Ареопагитик". Он встречается у большинства отцов. Климент Александрийский, например, в своих "Строматах" говорит, что мы можем постичь Бога не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть [21]. Само сознание неприступности неведомого Бога, по Клименту, было бы для нас невозможно без благодатного действия той премудрости, которая есть дар Божий и сила Отца [22]. Это означает, что сознание непознаваемости Божественной природы равноценно опыту, встрече с личным Богом Откровения. По такой благодати Моисей и апостол Павел и ощутили невозможность познать Бога: первый - когда проник в мрак Божественной неприступности, второй - когда услышал "глаголы" Божественной неизреченности [23]. Образ Моисея, приближающегося к Богу в Синайском мраке, который мы встречаем у Дионисия и которым впервые воспользовался Филон Александрийский как символом экстаза, становится у отцов излюбленным образом непознаваемости Божественной природы человеческим опытом. Святой Григорий Нисский пишет особый трактат "Жизнь Моисея" [24], в котором восхождение Моисея на Синай в мрак Божественной непознаваемости является путем созерцания, встречей более высокой, чем первая его встреча с Богом, когда Он явился ему в купине неопалимой. Тогда Моисей видел Бога в свете; теперь он вступает в мрак, оставляя за собой все видимое или познаваемое; перед ним - только невидимое и непознаваемое; но то, что в этом мраке, есть Бог [25]. Ибо Бог пребывает там, куда наши знания, наши понятия не имеют доступа. В нашем духовном восхождении только все более и более достоверным образом открывается абсолютная непознаваемость Божественной природы. Все более и более к ней устремляясь, душа непрестанно растет, из себя выходит, себя превосходя, в жажде большего; так восхождение становится бесконечным, желание - неутолимым. Это любовь возлюбленной из "Песни Песней": она протягивает руки к замку, ищет Неуловимого, зовет Того, Кого не может достичь, и достигает Недостижимого в сознании, что соединение будет беспредельным, восхождение - бесконечным [26].
Святой Григорий Богослов возвращается к этим же образам и прежде всего образу Моисея: "Я шел вперед с тем, чтобы познать Бога. Поэтому я отделился от материи и от всего плотского, я собрался, насколько смог, в самом себе и поднялся на вершину горы. Но когда я открыл глаза, то смог увидеть задняя Божия (Исх. 33, 22-23), и это было покрыто камнем (1 Кор. 10, 4), то есть человечеством Слова, воплотившегося ради нашего спасения. Я не мог созерцать все чистую Первоприроду, познаваемую только Ею Самой, то есть Святой Троицей. Ибо я не могу созерцать то, что находится за первой завесой, сокрытое херувимами, но только то, что нисходит к нам - Божественное великолепие, видимое в тварях" [27]. Что же касается до самой Божественной сущности, то это "Святое Святых", закрываемое и от самих серафимов" [28]. "Божественная природа есть как бы некое море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия о времени и природе. Если наш ум попытается создать слабый образ Божий, созерцая Его не в Нем Самом, но в том, что Его окружает, то этот образ ускользает от нас прежде, чем мы попытаемся его уловить, озаряя высшие способности нашего ума, как молния, ослепляющая взоры" [29].
Святой Иоанн Дамаскин высказывается в том же смысле: "Итак Бог беспределен и непостижим, и одно в Нем постижимо - Его беспредельность и непостижимость. А то, что мы говорим о Боге утвердительно, показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству... Ибо Он не есть что-либо из числа вещей существующих, не потому, чтобы вовсе не существовал, но потому что превыше всего существующего, превыше даже самого бытия. Ибо если познание имеет предметом своим вещи существующие, то уже то, что выше познания, конечно, выше и бытия, и снова: то, что превышает бытие, то выше и познания" [30].
Можно было бы находить бесчисленные примеры апофатизма в богословии и предании Восточной Церкви. Мы ограничимся лишь тем, что приведем еще одно место из творений великого византийского богослова XIV века святого Григория Паламы: "Пресущественная природа Божия не может быть ни выражена словом, ни охвачена мыслью или зрением, ибо удалена от всех вещей и более чем непознаваема, будучи носима непостижимыми силами небесных духов, непознаваема и неизреченна для всех и навсегда. Нет имени, ни в сем веке, ни в будущем, чтобы ее назвать, ни слова - найденного душою и выраженного языком, нет какого-нибудь чувственного или сверхчувственного касания, нет образа, могущего бы дать о ней какое-нибудь сведение кроме совершенной непознаваемости, которую мы исповедуем, отрицая все, что существует и может иметь имя. Никто не может назвать ее сущностью или природой в собственном смысле слова, если он действительно стремится к Истине, которая превыше всякой истины [31]". "Если Бог - природа, то все остальное - не природа; если же то, что не Бог, является природой, то Бог не природа, и даже Он не есть, если другие существа суть" [32].
Можно спросить себя, соответствует ли этот радикальный и характерный для богословской традиции Восточной Церкви апофатизм какому-нибудь экстатическому состоянию, стремятся ли к экстазу каждый раз, когда хотят познать Бога путем отрицания? Является ли отрицательное богословие обязательным богословием экстаза или же оно может иметь более широкое значение? Изучая "Мистическое богословие" Дионисия, мы видели, что апофатический путь - не интеллектуальная процедура, что он нечто большее, чем простое умствование. Как у экстатиков-платоников, как у Плотина, здесь необходимо внутреннее очищение, caJarsiV, с той только разницей, что очищение платоников было, главным образом, интеллектуального порядка и имело целью освободить сознание от коррелятивной бытию множественности, тогда как для Дионисия очищение есть отказ от приятия бытия (тварного) как такового, поскольку оно сокрывает "не-бытие" Божества, есть выступление из области тварного, чтобы приступить к нетварному, это - освобождение как бы более экзистенциальное, объемлющее все существо того, кто хочет познать Бога. В обоих случаях речь идет о соединении. Но соединение с en Плотина может также означать осознание первичного онтологического единства человека и Бога. Дионисиевское же мистическое соединение есть состояние новое, предполагающее продвижение вперед, целый ряд изменений, переход от тварного к нетварному, стяжание чего-то такого, чего субъект раньше по свойству своей природы не имел. Действительно, человек не только выходит из самого себя (что происходит и у Плотина), но он полностью принадлежит Непознаваемому и в этом соединении становится обоженным, ибо единение означает здесь ободрение. Однако, будучи тесно связанным с Богом, человек не знает Его иным как только непознаваемым, следовательно бесконечно отдаленным по Своей природе, остающимся даже в самом соединении неприступным по Своей сущности. Если Дионисий говорит об экстазе и соединении, если его негативное богословие, отнюдь не являясь чисто интеллектуальной деятельностью, имеет в виду мистический опыт, восхождение к Богу, он и здесь хочет показать, что, даже поднявшись на высочайшие вершины, доступные существам тварным, единственное "разумное" понятие, которое можно будет и тогда иметь о Боге, будет понятие о Его непознаваемости. Таким образом, богословие должно быть не столько изысканием положительных знаний о Божественной сущности, сколько опытным познанием того, что превосходит всякое разумение. "Говорить о Боге - великое дело, но еще лучше - очищать себя для Бога", - говорил святой Григорий Богослов [33]. Апофатизм не есть обязательно богословие экстаза; это -прежде всего расположенность ума, отказывающегося от составления понятий о Боге; при такой установке решительно исключается всякое абстрактное и чисто рационалистическое богословствование, желающее приспособить к человеческому мышлению тайны Божественной Премудрости. Это - экзистенциальная позиция, при которой человек целиком захвачен: нет богословия вне опыта - нужно меняться, становиться новым человеком. Чтобы познать Бога, нужно к Нему приблизиться; нельзя быть богословом и не идти путем соединения с Богом. Путь богопознания есть непременно и путь обожения. Тот, кто следуя этим путем, в определенный момент вообразит, что он познал, что такое Бог, у того, по словам святого Григория Богослова, ум развращенный [34]. Итак, апофатизм есть некий критерий, верный признак умонастроения, со-ответного истине. В этом смысле всякое истинное богословие есть по существу своему богословие апофатическое.
Естественно напрашивается вопрос, какова же в таком случае роль так называемого "катафатического" или положительного богословия, богословия "Божественных имен", которые проявляются в тварном? В противоположность негативному пути, который возводит к соединению, этот путь к нам нисходит как лестница "богоявлений" или богопроявлений в тварном мире. Можно даже сказать, что это один и тот же путь в двух своих противоположных направлениях: Бог нисходит к нам в Своих энергиях, которые Его являют, мы восходим к нему в "соединениях", в которых Он остается природно непознаваемым. "Наивысочайшая феофания" - совершеннейшее явление Бога в мире в воплощении Слова - также для нас совершенно апофатична: "В человечестве Христа, - говорит Дионисий, - Пресущественный явился в человеческой сущности, не переставая быть сокровенным после этого явления, или, если выразиться более божественным образом, не переставая быть сокровенным в самом этом явлении" [35]. "Утверждения, относящиеся к пресвятому человечеству Христа, имеют всю высоту и ценность наиболее категорических отрицаний" [36]. Тем более частичные феофании, происходящие на низших ступенях, сокрывают Бога в том, что Он есть, и являют Его в том, что Он не есть по Своей природе. "Лествица" катафатического богословия, которая открывает нам Божественные имена, извлеченные главным образом из Священного Писания, есть ряд ступеней, служащих опорой созерцанию. Это не рационалистические сведения, которые мы сами сформулируем, не понятия, сообщающие нашим "разумным" способностям положительное знание о Божественной природе, это - скорее образы или идеи, способствующие тому, чтобы направить, преобразовать нас к созерцанию того, что превосходит всякое разумение [37]. В особенности на низших ступенях мы создаем эти образы, исходя из материальных предметов, которые наименее могут ввести в заблуждение умы, малоискушенные в созерцательной деятельности. И действительно, труднее принимать Бога за камень или огонь, чем пожелать отождествлять Его с разумом, единством, сущностью или благом [38]. То, что кажется очевидным в начале восхождения ("Бог не камень, не огонь"), становится все менее и менее очевидным по мере того, как мы достигаем вершин созерцания и, увлеченные тем же апофатическим порывом, мы говорим: "Бог не есть бытие, Бог не есть благость". На каждой ступени этого восхождения, приближаясь к более высоким образам или идеям, мы должны остерегаться того, чтобы не создавать из них понятий - "идолов Бога". Тогда только мы можем созерцать саму Божественную красоту, видеть Бога постольку, поскольку Он становится видимым в творении. Спекулятивное мышление постепенно уступает место созерцанию, познание все более и более стирается опытом, ибо, устраняя пленяющие ум понятия, апофатизм на каждой ступени положительного богословия открывает безграничные горизонты созерцанию. Таким образом, в богословии имеются различные ступени, приспособленные к неравным способностям человеческих умов, приступающих к тайнам Божиим. Поэтому святой Григорий Богослов в своем втором Слове о богословии снова возвращается к образу Моисея на горе Синае: "Бог повелевает мне проникнуть в облако для беседы с Ним, - говорит он. - Я желал бы, чтобы появился какой-нибудь Аарон, который мог бы быть спутником в моем путешествии и находиться близ меня, даже если бы он и не осмелился войти в облако... Священники становились бы на горе пониже... Но народ, который совсем недостоин того, чтобы подняться, и не способен к столь возвышенному созерцанию, остается у подножия горы, не приближаясь к ней, потому что он нечист и непосвящен: он мог бы погибнуть. Если он постарается несколько очиститься, он сможет услышать издали звуки труб и голос, то есть какое-нибудь простое объяснение таин... Если имеется здесь какой-нибудь злобный и свирепый зверь, то есть люди неспособные к умозрению и богословию, пусть они яростно не нападают на догматы, пусть они отойдут как можно дальше от горы, а не то они будут побиты камнями" [39].
Апофатизм как религиозная установка в вопросе Божественной непознаваемости характерен не только для "Ареопагитик". Он встречается у большинства отцов. Климент Александрийский, например, в своих "Строматах" говорит, что мы можем постичь Бога не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть [21]. Само сознание неприступности неведомого Бога, по Клименту, было бы для нас невозможно без благодатного действия той премудрости, которая есть дар Божий и сила Отца [22]. Это означает, что сознание непознаваемости Божественной природы равноценно опыту, встрече с личным Богом Откровения. По такой благодати Моисей и апостол Павел и ощутили невозможность познать Бога: первый - когда проник в мрак Божественной неприступности, второй - когда услышал "глаголы" Божественной неизреченности [23]. Образ Моисея, приближающегося к Богу в Синайском мраке, который мы встречаем у Дионисия и которым впервые воспользовался Филон Александрийский как символом экстаза, становится у отцов излюбленным образом непознаваемости Божественной природы человеческим опытом. Святой Григорий Нисский пишет особый трактат "Жизнь Моисея" [24], в котором восхождение Моисея на Синай в мрак Божественной непознаваемости является путем созерцания, встречей более высокой, чем первая его встреча с Богом, когда Он явился ему в купине неопалимой. Тогда Моисей видел Бога в свете; теперь он вступает в мрак, оставляя за собой все видимое или познаваемое; перед ним - только невидимое и непознаваемое; но то, что в этом мраке, есть Бог [25]. Ибо Бог пребывает там, куда наши знания, наши понятия не имеют доступа. В нашем духовном восхождении только все более и более достоверным образом открывается абсолютная непознаваемость Божественной природы. Все более и более к ней устремляясь, душа непрестанно растет, из себя выходит, себя превосходя, в жажде большего; так восхождение становится бесконечным, желание - неутолимым. Это любовь возлюбленной из "Песни Песней": она протягивает руки к замку, ищет Неуловимого, зовет Того, Кого не может достичь, и достигает Недостижимого в сознании, что соединение будет беспредельным, восхождение - бесконечным [26].
Святой Григорий Богослов возвращается к этим же образам и прежде всего образу Моисея: "Я шел вперед с тем, чтобы познать Бога. Поэтому я отделился от материи и от всего плотского, я собрался, насколько смог, в самом себе и поднялся на вершину горы. Но когда я открыл глаза, то смог увидеть задняя Божия (Исх. 33, 22-23), и это было покрыто камнем (1 Кор. 10, 4), то есть человечеством Слова, воплотившегося ради нашего спасения. Я не мог созерцать все чистую Первоприроду, познаваемую только Ею Самой, то есть Святой Троицей. Ибо я не могу созерцать то, что находится за первой завесой, сокрытое херувимами, но только то, что нисходит к нам - Божественное великолепие, видимое в тварях" [27]. Что же касается до самой Божественной сущности, то это "Святое Святых", закрываемое и от самих серафимов" [28]. "Божественная природа есть как бы некое море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия о времени и природе. Если наш ум попытается создать слабый образ Божий, созерцая Его не в Нем Самом, но в том, что Его окружает, то этот образ ускользает от нас прежде, чем мы попытаемся его уловить, озаряя высшие способности нашего ума, как молния, ослепляющая взоры" [29].
Святой Иоанн Дамаскин высказывается в том же смысле: "Итак Бог беспределен и непостижим, и одно в Нем постижимо - Его беспредельность и непостижимость. А то, что мы говорим о Боге утвердительно, показывает нам не естество Его, но то, что относится к естеству... Ибо Он не есть что-либо из числа вещей существующих, не потому, чтобы вовсе не существовал, но потому что превыше всего существующего, превыше даже самого бытия. Ибо если познание имеет предметом своим вещи существующие, то уже то, что выше познания, конечно, выше и бытия, и снова: то, что превышает бытие, то выше и познания" [30].
Можно было бы находить бесчисленные примеры апофатизма в богословии и предании Восточной Церкви. Мы ограничимся лишь тем, что приведем еще одно место из творений великого византийского богослова XIV века святого Григория Паламы: "Пресущественная природа Божия не может быть ни выражена словом, ни охвачена мыслью или зрением, ибо удалена от всех вещей и более чем непознаваема, будучи носима непостижимыми силами небесных духов, непознаваема и неизреченна для всех и навсегда. Нет имени, ни в сем веке, ни в будущем, чтобы ее назвать, ни слова - найденного душою и выраженного языком, нет какого-нибудь чувственного или сверхчувственного касания, нет образа, могущего бы дать о ней какое-нибудь сведение кроме совершенной непознаваемости, которую мы исповедуем, отрицая все, что существует и может иметь имя. Никто не может назвать ее сущностью или природой в собственном смысле слова, если он действительно стремится к Истине, которая превыше всякой истины [31]". "Если Бог - природа, то все остальное - не природа; если же то, что не Бог, является природой, то Бог не природа, и даже Он не есть, если другие существа суть" [32].
Можно спросить себя, соответствует ли этот радикальный и характерный для богословской традиции Восточной Церкви апофатизм какому-нибудь экстатическому состоянию, стремятся ли к экстазу каждый раз, когда хотят познать Бога путем отрицания? Является ли отрицательное богословие обязательным богословием экстаза или же оно может иметь более широкое значение? Изучая "Мистическое богословие" Дионисия, мы видели, что апофатический путь - не интеллектуальная процедура, что он нечто большее, чем простое умствование. Как у экстатиков-платоников, как у Плотина, здесь необходимо внутреннее очищение, caJarsiV, с той только разницей, что очищение платоников было, главным образом, интеллектуального порядка и имело целью освободить сознание от коррелятивной бытию множественности, тогда как для Дионисия очищение есть отказ от приятия бытия (тварного) как такового, поскольку оно сокрывает "не-бытие" Божества, есть выступление из области тварного, чтобы приступить к нетварному, это - освобождение как бы более экзистенциальное, объемлющее все существо того, кто хочет познать Бога. В обоих случаях речь идет о соединении. Но соединение с en Плотина может также означать осознание первичного онтологического единства человека и Бога. Дионисиевское же мистическое соединение есть состояние новое, предполагающее продвижение вперед, целый ряд изменений, переход от тварного к нетварному, стяжание чего-то такого, чего субъект раньше по свойству своей природы не имел. Действительно, человек не только выходит из самого себя (что происходит и у Плотина), но он полностью принадлежит Непознаваемому и в этом соединении становится обоженным, ибо единение означает здесь ободрение. Однако, будучи тесно связанным с Богом, человек не знает Его иным как только непознаваемым, следовательно бесконечно отдаленным по Своей природе, остающимся даже в самом соединении неприступным по Своей сущности. Если Дионисий говорит об экстазе и соединении, если его негативное богословие, отнюдь не являясь чисто интеллектуальной деятельностью, имеет в виду мистический опыт, восхождение к Богу, он и здесь хочет показать, что, даже поднявшись на высочайшие вершины, доступные существам тварным, единственное "разумное" понятие, которое можно будет и тогда иметь о Боге, будет понятие о Его непознаваемости. Таким образом, богословие должно быть не столько изысканием положительных знаний о Божественной сущности, сколько опытным познанием того, что превосходит всякое разумение. "Говорить о Боге - великое дело, но еще лучше - очищать себя для Бога", - говорил святой Григорий Богослов [33]. Апофатизм не есть обязательно богословие экстаза; это -прежде всего расположенность ума, отказывающегося от составления понятий о Боге; при такой установке решительно исключается всякое абстрактное и чисто рационалистическое богословствование, желающее приспособить к человеческому мышлению тайны Божественной Премудрости. Это - экзистенциальная позиция, при которой человек целиком захвачен: нет богословия вне опыта - нужно меняться, становиться новым человеком. Чтобы познать Бога, нужно к Нему приблизиться; нельзя быть богословом и не идти путем соединения с Богом. Путь богопознания есть непременно и путь обожения. Тот, кто следуя этим путем, в определенный момент вообразит, что он познал, что такое Бог, у того, по словам святого Григория Богослова, ум развращенный [34]. Итак, апофатизм есть некий критерий, верный признак умонастроения, со-ответного истине. В этом смысле всякое истинное богословие есть по существу своему богословие апофатическое.
Естественно напрашивается вопрос, какова же в таком случае роль так называемого "катафатического" или положительного богословия, богословия "Божественных имен", которые проявляются в тварном? В противоположность негативному пути, который возводит к соединению, этот путь к нам нисходит как лестница "богоявлений" или богопроявлений в тварном мире. Можно даже сказать, что это один и тот же путь в двух своих противоположных направлениях: Бог нисходит к нам в Своих энергиях, которые Его являют, мы восходим к нему в "соединениях", в которых Он остается природно непознаваемым. "Наивысочайшая феофания" - совершеннейшее явление Бога в мире в воплощении Слова - также для нас совершенно апофатична: "В человечестве Христа, - говорит Дионисий, - Пресущественный явился в человеческой сущности, не переставая быть сокровенным после этого явления, или, если выразиться более божественным образом, не переставая быть сокровенным в самом этом явлении" [35]. "Утверждения, относящиеся к пресвятому человечеству Христа, имеют всю высоту и ценность наиболее категорических отрицаний" [36]. Тем более частичные феофании, происходящие на низших ступенях, сокрывают Бога в том, что Он есть, и являют Его в том, что Он не есть по Своей природе. "Лествица" катафатического богословия, которая открывает нам Божественные имена, извлеченные главным образом из Священного Писания, есть ряд ступеней, служащих опорой созерцанию. Это не рационалистические сведения, которые мы сами сформулируем, не понятия, сообщающие нашим "разумным" способностям положительное знание о Божественной природе, это - скорее образы или идеи, способствующие тому, чтобы направить, преобразовать нас к созерцанию того, что превосходит всякое разумение [37]. В особенности на низших ступенях мы создаем эти образы, исходя из материальных предметов, которые наименее могут ввести в заблуждение умы, малоискушенные в созерцательной деятельности. И действительно, труднее принимать Бога за камень или огонь, чем пожелать отождествлять Его с разумом, единством, сущностью или благом [38]. То, что кажется очевидным в начале восхождения ("Бог не камень, не огонь"), становится все менее и менее очевидным по мере того, как мы достигаем вершин созерцания и, увлеченные тем же апофатическим порывом, мы говорим: "Бог не есть бытие, Бог не есть благость". На каждой ступени этого восхождения, приближаясь к более высоким образам или идеям, мы должны остерегаться того, чтобы не создавать из них понятий - "идолов Бога". Тогда только мы можем созерцать саму Божественную красоту, видеть Бога постольку, поскольку Он становится видимым в творении. Спекулятивное мышление постепенно уступает место созерцанию, познание все более и более стирается опытом, ибо, устраняя пленяющие ум понятия, апофатизм на каждой ступени положительного богословия открывает безграничные горизонты созерцанию. Таким образом, в богословии имеются различные ступени, приспособленные к неравным способностям человеческих умов, приступающих к тайнам Божиим. Поэтому святой Григорий Богослов в своем втором Слове о богословии снова возвращается к образу Моисея на горе Синае: "Бог повелевает мне проникнуть в облако для беседы с Ним, - говорит он. - Я желал бы, чтобы появился какой-нибудь Аарон, который мог бы быть спутником в моем путешествии и находиться близ меня, даже если бы он и не осмелился войти в облако... Священники становились бы на горе пониже... Но народ, который совсем недостоин того, чтобы подняться, и не способен к столь возвышенному созерцанию, остается у подножия горы, не приближаясь к ней, потому что он нечист и непосвящен: он мог бы погибнуть. Если он постарается несколько очиститься, он сможет услышать издали звуки труб и голос, то есть какое-нибудь простое объяснение таин... Если имеется здесь какой-нибудь злобный и свирепый зверь, то есть люди неспособные к умозрению и богословию, пусть они яростно не нападают на догматы, пусть они отойдут как можно дальше от горы, а не то они будут побиты камнями" [39].
Это не эзотеризм более совершенного учения, сокрытого от непосвященных, не деление, как у гностиков, на духовных, душевных и плотских, но школа созерцания, где каждый получает свою часть в опытном познании тайны христианства, которым живет Церковь. Такое созерцание "сокровенных сокровищ" Божественной Премудрости может происходить различным образом, с большей или меньшей интенсивностью. Будет ли это возвышением ума к Богу от созерцания тварного, отражающего Его величие; или размышлением над Священным Писанием, в котором Сам Бог - под словесным выражением Откровения - остается сокрытым как бы за стеной (святой Григорий Нисский), или проникновением в Божественные тайны через догматы Церкви или ее литургическую жизнь, или, наконец, путем экстаза, - этот опыт о Боге будет всегда плодом следования тем апофатическим путем, который Дионисий рекомендует нам в своем "Мистическом богословии".
Все, что мы сказали об апофатизме, можно резюмировать в нескольких словах. Негативное богословие - не только теория экстаза в собственном смысле слова; оно - выражение совершенно определенной умонастроенности, превращающей каждую богословскую науку в созерцание тайн Откровения. Это не какой-нибудь богословский раздел, не какая-то глава, не неизбежное введение к понятию непознаваемости Бога, после которого можно спокойно перейти к изложению христианского учения в обычных выражениях, свойственных человеческому разуму и общепринятой философии. Апофатизм учит нас видеть в догматах Церкви прежде всего их негативное значение, как запрет нашей мысли следовать своими естественными путями и образовывать понятия, которые заменяли бы духовные реальности. Ибо христианство - не философская школа, спекулирующая абстрактными понятиями, но прежде всего общение с живым Богом. Вот почему, несмотря на всю философскую культуру и естественную наклонность к спекулятивному мышлению, отцы Восточной Церкви, верные апофатическому началу богословия, сумели удерживать свою мысль на пороге тайны и не подменять Бога Его идолами. Поэтому нет философии "более" или "менее" христианской: Платон не более христианин, чем Аристотель. Вопрос соотношения богословия с философией никогда не ставился на Востоке. Апофатизм сообщал отцам Церкви возможность свободно и естественно пользоваться философскими терминами, не рискуя быть плохо понятыми или впасть в какое-либо концептуальное богословие. Когда богословие превращалось в религиозную философию, как у Оригена, это всегда происходило вследствие отхода от апофатизма, подлинного основания всего богословского предания Восточной Церкви.
Непознаваемость не означает агностицизма или отказа от Бого-познания. Тем не менее это познание всегда идет путем, основная цель которого - не знание, но единение, обожение. Потому что это вовсе не абстрактное богословие, оперирующее понятиями, но богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям "умопревосходящим". Поэтому догматы Церкви часто представляются нашему рассудку антиномиями, которые тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выражают. Задача состоит не в устранении антиномии путем приспособления догмата к нашему пониманию, но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-открывающейся реальности, восходя к Богу и соединяясь с Ним в большей или меньшей мере.
Вершина Откровения есть догмат о Пресвятой Троице, догмат "преимущественно" антиномичный. Для того, чтобы созерцать эту извечную реальность во всей ее полноте, нужно достичь предназначенной нам цели, нужно дойти до состояния обожения, ибо, по слову святого Григория Богослова, "будут сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы... те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом, и это будет, как я думаю, Царство Небесное" [40]. Апофатический путь приводит не к отсутствию и не к абсолютной пустоте, ибо непознаваемый Бог христиан - не безличный "бог" философов. Ведь Святой Троице "Пресущественной, Пребожественной и Преблагой" [41] предает себя автор "Мистического богословия", вступая на путь, долженствующий привести ею к абсолютному присутствию и абсолютной полноте.
Все, что мы сказали об апофатизме, можно резюмировать в нескольких словах. Негативное богословие - не только теория экстаза в собственном смысле слова; оно - выражение совершенно определенной умонастроенности, превращающей каждую богословскую науку в созерцание тайн Откровения. Это не какой-нибудь богословский раздел, не какая-то глава, не неизбежное введение к понятию непознаваемости Бога, после которого можно спокойно перейти к изложению христианского учения в обычных выражениях, свойственных человеческому разуму и общепринятой философии. Апофатизм учит нас видеть в догматах Церкви прежде всего их негативное значение, как запрет нашей мысли следовать своими естественными путями и образовывать понятия, которые заменяли бы духовные реальности. Ибо христианство - не философская школа, спекулирующая абстрактными понятиями, но прежде всего общение с живым Богом. Вот почему, несмотря на всю философскую культуру и естественную наклонность к спекулятивному мышлению, отцы Восточной Церкви, верные апофатическому началу богословия, сумели удерживать свою мысль на пороге тайны и не подменять Бога Его идолами. Поэтому нет философии "более" или "менее" христианской: Платон не более христианин, чем Аристотель. Вопрос соотношения богословия с философией никогда не ставился на Востоке. Апофатизм сообщал отцам Церкви возможность свободно и естественно пользоваться философскими терминами, не рискуя быть плохо понятыми или впасть в какое-либо концептуальное богословие. Когда богословие превращалось в религиозную философию, как у Оригена, это всегда происходило вследствие отхода от апофатизма, подлинного основания всего богословского предания Восточной Церкви.
Непознаваемость не означает агностицизма или отказа от Бого-познания. Тем не менее это познание всегда идет путем, основная цель которого - не знание, но единение, обожение. Потому что это вовсе не абстрактное богословие, оперирующее понятиями, но богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям "умопревосходящим". Поэтому догматы Церкви часто представляются нашему рассудку антиномиями, которые тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выражают. Задача состоит не в устранении антиномии путем приспособления догмата к нашему пониманию, но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-открывающейся реальности, восходя к Богу и соединяясь с Ним в большей или меньшей мере.
Вершина Откровения есть догмат о Пресвятой Троице, догмат "преимущественно" антиномичный. Для того, чтобы созерцать эту извечную реальность во всей ее полноте, нужно достичь предназначенной нам цели, нужно дойти до состояния обожения, ибо, по слову святого Григория Богослова, "будут сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы... те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом, и это будет, как я думаю, Царство Небесное" [40]. Апофатический путь приводит не к отсутствию и не к абсолютной пустоте, ибо непознаваемый Бог христиан - не безличный "бог" философов. Ведь Святой Троице "Пресущественной, Пребожественной и Преблагой" [41] предает себя автор "Мистического богословия", вступая на путь, долженствующий привести ею к абсолютному присутствию и абсолютной полноте.
Апофатизм, свойственный богомыслию Восточной Церкви, не тождествен безличностной мистике, опыту абсолютной Божественной внебытийности, в которой исчезают как человеческая личность, так и Божественное Лицо.
Предел, которого достигает апофатическое богословие, если только можно говорить о пределе и завершении там, где речь идет о восхождении к бесконечному, этот бесконечный предел не есть какая-то природа или сущность; это также и не лицо, это - нечто, одновременно превышающее всякое понятие природы и личности, это - Троица.
Святой Григорий Богослов, которого часто называют "певцом Пресвятой Троицы", говорит в своих богословских поэмах: "С тех пор, как, отрешившись от житейского, предал я душу светлым небесным помыслам, и высокий ум, восхитив меня отсюда, поставил меня далеко от плоти, скрыл меня в таинницах небесной скинии, осиял мои взоры светом Троицы, светозарнее Которой ничего не представляла мне мысль, Троицы, Которая с превознесенного престола изливает на всех общее и неизреченное сияние, Которая есть начало всего, что отделяется от превыспреннего временем, с тех пор я умер для мира, а мир умер для меня" [1]. Под конец своей жизни он выражает желание быть "там, где моя Троица в полном блеске Ее сияния... Троица, даже неясная тень Которой наполняет меня волнением" [2].
Если само начало тварного бытия есть изменяемость, переход из небытия в бытие, если тварь по самой природе своей условна, то Троица есть абсолютная неизменяемость. Хотелось бы даже сказать: "абсолютная необходимость совершенного бытия", но идея необходимости неприложима к Троице, ибо Она - за пределами антиномии необходимого и случайного. Совершенно личностная и совершенно природная, в Ней свобода и необходимость - едины, или вернее они не могут иметь места в Боге. У Троицы - никакой зависимости от тварного: акт сотворения мира ни в чем не определяет того, что принято называть "вечное происхождение Божественных Лиц". Тварного могло бы и не быть, Бог и тогда был бы Троицей - Отцом, Сыном и Духом Святым, ибо сотворение есть акт воли, происхождение Лиц - акт природы ( kata jusin ) [3]. В Боге - никакого внутреннего процесса, никакой диалектики трех Лиц, никакого становления, никакой трагедии в Абсолюте, для преодоления или разрешения которой потребовалось бы троическое развитие Божественного существа. Подобные вымыслы, свойственные романтическим теориям немецкой философии прошлого века, совершенно чужды догмату о Пресвятой Троице. Если мы и говорим о происхождении, о внутренних действиях или самоопределениях, эти выражения, предполагающие понятия времени, становления, намерения, только показывают, до какой степени наш язык и даже сама наша мысль бедны и недостаточны применительно к изначальной тайне Откровения. Мы снова принуждены обратиться к апофатическому богословию, чтобы освободиться от понятий, свойственных нашему мышлению, и будем превращать их только в точки опоры, с которых мы поднимались бы к созерцанию той Реальности, Которую не может вместить в себя тварный ум.
Именно это и имеет в виду святой Григорий Богослов в своем Слове на Крещение: "Я еще не начал думать об Единице, как Троица озаряет меня Своим сиянием. Едва я начал думать о Троице, как Единица снова охватывает меня. Когда Один из Трех представляется мне, я думаю, что Это целое, до того мой взор наполнен Им, а остальное ускользает от меня; ибо в моем уме, слишком ограниченном, чтобы понять Одного, не имеется больше места для остального. Когда я объединяю Трех в одной и той же мысли, я вижу единый светоч, но не могу разделить или рассмотреть соединенного света" [4]. Наша мысль должна безостановочно двигаться, перебегать от Одного к Трем и снова возвращаться к Единству; должна безостановочно колебаться между обоими терминами этой антиномии, чтобы дойти до созерцания царственного покоя этой троичной Единицы. Как заключить в один образ антиномию единства и троичности? Можно ли объять эту тайну без помощи несоответствующих ей понятий движения или развития? И тот же Григорий Богослов сознательно заимствует язык Плотина, что может ввести в заблуждение только лишь умы ограниченные, не способные возвыситься над рациональными понятиями, умы "критиков" и "историков", занятых разыскиванием в творениях святых отцов "платонизма" и "аристотелизма". Святой Григорий говорит с философами как философ, дабы "приобресть философов к созерцанию Святой Троицы: Единица приходит в движение от Своего богатства, двоица преодолена, ибо Божество выше материи и формы. Троица замыкается в совершенстве, ибо Она первая преодолевает состав двоицы. Таким образом Божество не пребывает ограниченным, но и не распространяется до бесконечности. Первое было бы бесславным, а второе - противоречащим порядку. Одно было бы совершенно в духе иудейства, а второе - эллинства и многобожия" [5]. Здесь как бы просвечивает тайна числа "три": Божество не единично и не множественно; Его совершенство превыше множественности, коренящейся в двоичности (вспомним бесконечные диады гностиков и дуализм платоников), и находит Свое выражение в Троичности. Слова "находит Свое выражение" сюда, собственно, не подходят: Божеству нет необходимости выражать Свое совершенство ни Самому Себе, ни другим. Оно есть Троица, и этот факт не может быть выведен из какого-либо принципа, не может быть объяснен какой-либо "достаточной" причиной, ибо нет ни начала, ни причины, предшествующих Троице.
TriaV (три) - это "наименование соединяет то, что соединено по естеству, и не дозволяет, чтобы с распадением числа разрушилось неразрушимое" [6], говорит святой Григорий Богослов. Два - число разделяющее, три - число, превосходящее разделение: единое и множественное оказываются собранными и вписанными в Троицу: "Когда я называю Бога, я называю Отца, Сына и Святого Духа. Не потому, что я предполагаю, что Божество рассеяно - это значило бы вернуться к путанице ложных богов; и не потому, чтобы я считал Божество собранным воедино - это значило бы Его обеднить. Итак, я не хочу впадать в иудейство ради Божественного единодержавия, ни в эллинство, из-за множества богов" [7]. Святой Григорий Богослов не пытается оправдать Троичность Лиц перед человеческим разумом; он просто указывает на недостаточность любого числа, кроме числа "три". Однако напрашивается вопрос: приложимо ли понятие числа к Богу и не подчиняем ли мы таким образом Божество одному из внешних определений, одной из категорий, свойственных нашему мышлению, а именно категории числа три? Святой Василий Великий так отвечает на это возражение: "Мы не ведем счет, переходя от одного до множественности путем прибавления, говоря один, два, три, или первый, второй, третий, ибо "Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога" (Ис. 44, 6). Никогда до сего дня не говорили: "второй Бог", но, поклоняясь Богу от Бога, исповедуя различие Ипостасей, без разделения природы на множественность, мы остаемся при единоначалии" [8]. Иными словами, речь идет здесь не о материальном числе, которое служит для счета и ни в какой мере не приложимо к области духовной, в которой нет количественного возрастания. В частности, когда это число относится к нераздельно соединенным Божественным Ипостасям, совокупность которых ("сумма", если выражаться не совсем подходящим языком) всегда равна только единице (3 = 1), тройственное число не является количеством, как мы это обычно понимаем: оно обозначает в Божестве неизреченный Его порядок.
Созерцание этого абсолютного совершенства, этой Божественной полноты, каковой является Пресвятая Троица, - Бог Лицо, но не замкнутая в Себе личность, - сама мысль о Которой - лишь "бледная Ее тень" - и та возносит душу человека над изменчивым и замутненным бытием, сообщая ей устойчивость среди страстей, ясное бесстрастие ( apaJeia ), которое и есть начало обожения. Ибо тварь, изменчивая по своей природе, должна по благодати достигнуть состояния вечной успокоенности, приобщившись бесконечной жизни в свете Пресвятой Троицы. Поэтому Церковь ревностно защищала тайну Пресвятой Троицы против естественных стремлений человеческого разума, пытавшихся устранить эту тайну, сводя троичность к одному единству и превращая ее в "эссенцию" философов, проявляющуюся тремя модусами (модализм Савеллия), или же разделяя ее на три отличные друг от друга существа, как это делал Арий.
Церковь выразила термином "омоусиос" единосущность трех Лиц, таинственное тождество монады и триады и одновременность тождества единой природы и различия трех Ипостасей. Интересно отметить, что выражение "омоусион" встречается у Плотина [9]. Плотиновская троица состоит из трех единосущных ипостасей: Единое, Ум и Душа мира. Однако их единосущность не поднимается до Троичной антиномии христианского догмата: она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостасей, которые, переходя одна в другую, одна в другой отражаются. Это лишний раз показывает, как ошибочен метод историков, которые хотят выразить мысль отцов Церкви, интерпретируя термины, которыми они пользуются в духе эллинистической философии. Откровение разверзает пропасть между Истиной, которую оно провозглашает, и истинами, которые могут быть открыты путем философского умозрения. Если человеческая мысль, которую, как еще смутную и нетвердую веру, вел к Истине какой-то инстинкт, могла ощупью вне христианского учения формировать какие-то идеи, приближающие ее к Троичности, то сама тайна Бога-Троицы оставалась для нее закрытой. Здесь необходимо "изменение ума", metanoia ; слово это означает также "покаяние", подобное покаянию Иова, когда он оказался лицом к лицу с Богом: "Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе" (Иов 42, 5-6). Тайна Троичности становится доступной только незнанию, подымающемуся над всем тем, что может содержаться в концепциях философов. Однако это незнание, не только мудрое, но и милосердное, снова нисходит до этих понятий, чтобы их изменить, преобразовывая выражения мудрости человеческой в орудия Премудрости Божественной, что для эллинов есть безумие.
Потребовались нечеловеческие усилия таких отцов Церкви, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и еще многих других, чтобы очистить понятия, свойственные эллинскому образу мысли, разрушить их непроницаемые перегородки, вводя в них начало христианского апофатизма, преобразовавшего рационалистическое умствование в созерцание тайн Пресвятой Троицы. Надо было найти терминологическое различение, которое выражало бы в Божестве единство и различие, не давая преобладания ни одному, ни другому, не давая мысли уклониться ни в унитаризм савеллиан, ни в требожие язычников.
Отцы IV, "тринитарного", по преимуществу, века, чтобы подвести умы к тайне Троичности, охотнее всего пользовались терминами "усия" и "ипостась". Термином "усия" часто пользуется Аристотель и определяет его в V главе своих "Категорий" следующим образом: "Называют главным образом, прежде всего и в собственном смысле "усиями" то, что не может быть сказано ни о каком (другом) индивиде и то, что не находится ни в каком (другом) индивиде, например, "этот человек, эта лошадь". Вторичными "усиями" ( deuterai ousiai ) называют виды, в которых первые "усии" существуют с соответствующими родами; таким образом "этот человек" есть человек по виду, а животное по роду" [10]. Иначе говоря, первые "усии" обозначают "индивидуальные существования", существующий индивид, вторые "усии" обозначают "сущности" в реалистическом смысле этого термина. Термин "ипостась", не имея значимости философского термина, обозначал на обычном языке то, что действительно существует, "существование" (от глагола ujistamia ). Святой Иоанн Дамаскин в своей "Диалектике" дает следующее определение концептуального значения обоих терминов: "Субстанция (усия) есть самосущая вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в чем другом. Или еще: субстанция есть то, что само по себе является ипостасным ( auJupostaton ) и не имеет своего бытия в другом, то есть то, что существует не через другое, и не в другом имеет свое бытие и не нуждается в другом для своего существования, но существует само по себе, - и в чем акциденция получает свое бытие" (гл. 39). "Слово "ипостась" имеет два значения. Иногда оно обозначает простое бытие. Согласно этому значению, субстанция (усия) и ипостась - одно и то же. Поэтому некоторые из святых отцов говорили: "природы или ипостаси". Иногда же термин "ипостась" обозначает бытие само по себе, бытие самостоятельное. Согласно этому значению, под ним разумеется индивид, отличающийся от других лишь численно, например: "Петр, Павел, какая-нибудь определенная лошадь"" (гл. 42) [11]). Итак, оба термина представляются более или менее синонимичными: "усия" обозначает субстанцию индивидуальную, хотя и может обозначать сущность, общую некоторым индивидам; "ипостась" - существование вообще, но может также прилагаться к субстанциям индивидуальным. По свидетельству Феодорита Кирского, "для мирской философии нет никакой разницы между "усией" и "ипостастью". Ибо "усия" обозначает то, что есть, а "ипостась" - то, что существует. Но, по учению святых отцов, между "усией" и "ипостасью" имеется та же разница, как между общим и частным" [12]. Гениальность святых отцов заключалась здесь в том, что они пользовались обоими синонимами, чтобы различать в Боге то, что является общим - "усия" - субстанция или сущность, и то, что является частным - "ипостась" или Лицо.
Что касается термина "persona" (греч. proswpon ), пользовавшегося успехом главным образом на Западе, то он вызвал горячие протесты со стороны восточных отцов. Действительно, это слово, отнюдь не имея современного значения "личности" (например, человеческая личность), обозначало скорее внешний вид индивида, обличие, наружность, маску ("личину"), или роль актера. Святой Василий Великий усматривал в применении этого термина к учению о Святой Троице свойственную западной мысли тенденцию, которая уже однажды выразилась в савеллианстве, делая из Отца, Сына и Духа Святого три модальности единой субстанции. В свою очередь западные видели в термине "ипостась", который они переводили словом "substantia" выражение тритеизма и даже арианства. В конце концов все недоразумения были устранены: термин "ипостась" перешел на Запад, сообщая понятию личности его конкретное значение, а термин "лицо", или proswpon был принят и должным образом истолкован на Востоке. Таким образом проявилась кафоличность Церкви, освобождая умы от их природной ограниченности, зависящей от различного образа мышления и различной культуры. Если латиняне выражали тайну Святой Троицы, исходя из единой сущности (essentia), чтобы от нее прийти к трем Лицам, а греческие отцы предпочитали в качестве отправной точки конкретное - три Ипостаси - и в них усматривали единую природу - это был один и тот же догмат о Святой Троице, который исповедовал до разделения Церквей весь христианский мир. Святой Григорий Богослов, объединяя обе точки зрения, говорит: "Когда я произношу слово "Бог", вы озаряетесь единым и тройственным светом - тройственным в отношении к особенным свойствам или к Ипостасям (если кому угодно так), или к Лицам (ни мало не будем препираться об именах, пока слова ведут к той же мысли) - я говорю "единым" в отношении к понятию сущности ("усия") и, следственно, Божества. Бог разделяется, так сказать, неразделимо и сочетается раздельно; потому что Божество есть Единое в Трех, и едино суть Три, в Которых Божество, или, точнее, которое суть Божество" [13]. В другом слове он кратко излагает свое учение, различая при этом характерные черты Ипостасей: ""Быть нерожденным, рождаться и исходить" дает наименования: первое - Отцу, второе - Сыну, третье - Святому Духу, так что неслитность трех Ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве Божества. Сын - не Отец, потому что Отец - один, но то же, что Отец. Дух не Сын, хотя и от Бога (потому Что Единородный - один), но то же, что Сын. И Три - единое по Божеству, и Единое - три по личным свойствам, так что нет ни единого - в смысле Савеллиевом, ни трех - в смысле нынешнего лукавого разделения" (т. е. арианства) [14].
В образе мыслей восточных отцов очищенное от аристотелизма богословское понятие ипостаси означает скорее не индивид, а личность в современном понимании этого слова. Действительно, наше представление о человеческой личности как о чем-то "личностном", делающем из каждого человеческого индивида существо "уникальное", совершенно ни с кем не сравнимое и к другим индивидуальностям несводимое, дало нам именно христианское богословие. Философия древнего мира знала только человеческие индивиды. Человеческая личность не может быть выражена понятиями. Она ускользает от всякого рационального определения и даже не поддается описанию, так как все свойства, которыми мы пытались бы ее охарактеризовать, можно найти и у других индивидов. "Личное" может восприниматься в жизни только непосредственной интуицией или же передаваться каким-нибудь произведением искусства. Когда мы говорим: "Это - Моцарт" или "это - Рембрандт", то каждый раз оказываемся в той "сфере личного", которой нигде не найти эквивалента. Однако "человеческие личности или ипостаси разъединены и, по учению святого Иоанна Дамаскина, не существуют одна в другой"; тогда как "в Святой Троице наоборот, ... Ипостаси находятся одна в другой" [15]. Дело личностей человеческих различно, дело же Лиц Божественных не различно, ибо "Три", имея одну природу, имеют и одну волю, одну силу, одно действие. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что Лица "соединяются, не сливаясь, но совокупно друг со другом сопребывая и друг друга проникая ( thn en allhlaiz pericwrhsin ekousi ) без всякого смешения и слияния, и так, что не существуют один вне другого или не разделяются в сущности согласно Ариеву разделению. Ибо, чтобы сказать кратко, Божество нераздельно в разделенном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг ко другу примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых - одно и смешение света, и слияние" [16]. "Ибо каждая (ипостась) едина есть с другой, не менее, как с самой собою" [17]. Действительно, каждая из трех Ипостасей заключает в Себе единство, единую природу свойственным ей образом, который, хотя и отличает Ее от двух других Лиц, в то же время создает неразделимую связь, соединяющую Трех. "Нерождаемость, рождение и исхождение... только этими ипостасными свойствами и различаются между собой три святые Ипостаси, нераздельно различаемые не по сущности, а по отличительному свойству каждой ипостаси" [18]. "Ибо Отец, и Сын, и Святой Дух во всем едины, кроме нерождаемости, рождения и исхождения" [19].
Единственная характерная ипостасная особенность, которую мы могли бы считать свойственной только каждой из них и которая не встречалась бы у других по причине их единосущности, была бы соотносимость по происхождению. Однако эту соотносимость должно понимать апофатически: это прежде всего отрицание, указывающее на то, что Отец - не Сын и не Дух Святой, что Сын - не Отец и не Дух, что Святой Дух - не Отец и не Сын. Рассматривать эту соотносимость иначе, значило бы подчинять Троицу одной из категорий аристотелевой логики - категории соотношения (или связи). Воспринятая апофатически, эта связанность отмечает различие, но тем не менее не указывает, "каким именно образом" Лица Пресвятой Троицы происходят. "Образ рождения и образ исхождения для нас непостижим", - говорит святой Иоанн Дамаскин. "Что, конечно, различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали, но какой образ различия - этого никак не постигаем" [20]. Уже святой Григорий Богослов должен был отклонить попытки определять модус происхождения Лиц Святой Троицы. "Ты спрашиваешь, - говорит он, - что такое исхождение Духа Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца, тогда в свою очередь я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождаемость Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии" [21]. "Ты слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй знать, как исходит" [22]. Действительно, если соотношения по происхождению - нерождаемость, рождение и исхождение, по которым мы различаем три Ипостаси, приводят нашу мысль к единому Источнику Сына и Святого Духа - к phgaia JeothV, к Источнику Божества [23] - Отцу, они этим не устанавливают особых отношений между Сыном и Духом Святым. Эти два Лица различаются модусом своего происхождения: Сын от Отца рождается, Святой Дух от Отца исходит. Этого достаточно для их различения.
Возражения святого Григория Богослова показывают, что тринитарные рассуждения, не удовлетворившись формулой исхождения Святого Духа dia uiou - "через Сына", или "в соотношении с Сыном" (выражение, имеющееся у святых отцов и означающее чаще всего миссию в мире Святого Духа через посредничество Сына), пытались установить связь между Сыном и Духом Святым по их ипостасному происхождению. Это отношение между обоими Лицами, происходящими от Отца, было установлено западным учением об исхождении Святого Духа аb utroque, то есть одновременно от двух Лиц - от Отца и Сына. Именно Filioque и был единственной догматической причиной, был "первопричиной" разделения Востока и Запада; остальные доктринальные разногласия - только его последствия. Чтобы понять, что именно восточные отцы хотели защитить, возражая против западной формулы и ее не принимая, достаточно сопоставить обе тринитарные концепции в том виде, в каком они противопоставлялись к середине IX века.
Как мы уже сказали, западная мысль в своем изложении тринитарного догмата чаще всего отправлялась от единой природы, чтобы прийти к Лицам, тогда как греческие отцы шли путем противоположным - от трех Лиц к единой природе. Святой Василий Великий предпочитал этот последний путь, отправлявшийся от конкретного, в соответствии со Священным Писанием и крещальной формулой, именующей Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, мысль не могла блуждать, когда сначала созерцала Лица, чтобы затем перейти к созерцанию их общей природы. Однако оба эти пути были вполне законны, поскольку они не предполагали, в первом случае, первенства единой сущности над тремя Лицами, во втором - первенства трех Лиц над общей природой. И действительно, мы видим, как святые отцы, чтобы установить различие между природой и Лицами и не выделять при этом ни одного, ни другого, пользуются двумя синонимами - ousia и upostasiV.
Когда утверждаются Лица (или Лицо), одновременно утверждается и природа, и обратно, ибо природа не мыслится вне Лиц или же "прежде" Лиц, хотя бы и в логическом порядке. Если мы нарушаем в ту или другую сторону равновесие этой антиномии между природой и Лицами, абсолютно тождественными и одновременно абсолютно различными, мы уклоняемся или в савеллианский унитаризм (Бог-эссенция философов), или в тритеизм. В формуле исхождения Святого Духа от Отца и Сына греки увидели тенденцию подчеркнуть единство природы в ущерб реальному различению Лиц: соотношения по происхождению, не приводящие Сына и Духа непосредственно к Единому Источнику - Отцу, Одного - как Рожденного, Другого - как Исходящего, - становятся некоей "системой соотношений" в единой сущности, чем-то логически сущности последствующим. Действительно, в умозрении Западной Церкви Отец и Сын изводят Дух Святой, поскольку Они представляют единую природу; в свою очередь Святой Дух, Который для западных богословов является "связью между Отцом и Сыном", означает природное единство двух первых Лиц. Ипостасные свойства (отцовство, рождение, исхождение) оказываются более или менее растворенными в природе или сущности, которая как начало единства Святой Троицы становится дифференцированным соотношением: соотносясь к Сыну - как Отец, к Святому Духу - как Отец и Сын. Отношения, вместо того, чтобы отличать Ипостаси, с Ними отождествляются. Позднее святой Фома Аквинский это и скажет: "Название "Лицо" означает отношение" [24], то есть отношение внутри-сущностное, которое ее - сущность - разнообразит. Мы не станем отрицать разницы между такой концепцией троичности и концепцией, скажем, святого Григория Богослова, который видит в Ней (Троице) "три святыни, которые сходятся в единое Господство и Божество" [25]. Реньон совершенно справедливо замечает: "Латинская философия сперва рассматривает природу в себе, а затем доходит до ее Носителей; философия греческая рассматривает сперва Носителей и проникает затем в Них, чтобы найти природу. Латинянин рассматривает Лицо как модус природы, грек рассматривает природу как содержание Лица" [26].
В образе мыслей восточных отцов очищенное от аристотелизма богословское понятие ипостаси означает скорее не индивид, а личность в современном понимании этого слова. Действительно, наше представление о человеческой личности как о чем-то "личностном", делающем из каждого человеческого индивида существо "уникальное", совершенно ни с кем не сравнимое и к другим индивидуальностям несводимое, дало нам именно христианское богословие. Философия древнего мира знала только человеческие индивиды. Человеческая личность не может быть выражена понятиями. Она ускользает от всякого рационального определения и даже не поддается описанию, так как все свойства, которыми мы пытались бы ее охарактеризовать, можно найти и у других индивидов. "Личное" может восприниматься в жизни только непосредственной интуицией или же передаваться каким-нибудь произведением искусства. Когда мы говорим: "Это - Моцарт" или "это - Рембрандт", то каждый раз оказываемся в той "сфере личного", которой нигде не найти эквивалента. Однако "человеческие личности или ипостаси разъединены и, по учению святого Иоанна Дамаскина, не существуют одна в другой"; тогда как "в Святой Троице наоборот, ... Ипостаси находятся одна в другой" [15]. Дело личностей человеческих различно, дело же Лиц Божественных не различно, ибо "Три", имея одну природу, имеют и одну волю, одну силу, одно действие. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что Лица "соединяются, не сливаясь, но совокупно друг со другом сопребывая и друг друга проникая ( thn en allhlaiz pericwrhsin ekousi ) без всякого смешения и слияния, и так, что не существуют один вне другого или не разделяются в сущности согласно Ариеву разделению. Ибо, чтобы сказать кратко, Божество нераздельно в разделенном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг ко другу примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых - одно и смешение света, и слияние" [16]. "Ибо каждая (ипостась) едина есть с другой, не менее, как с самой собою" [17]. Действительно, каждая из трех Ипостасей заключает в Себе единство, единую природу свойственным ей образом, который, хотя и отличает Ее от двух других Лиц, в то же время создает неразделимую связь, соединяющую Трех. "Нерождаемость, рождение и исхождение... только этими ипостасными свойствами и различаются между собой три святые Ипостаси, нераздельно различаемые не по сущности, а по отличительному свойству каждой ипостаси" [18]. "Ибо Отец, и Сын, и Святой Дух во всем едины, кроме нерождаемости, рождения и исхождения" [19].
Единственная характерная ипостасная особенность, которую мы могли бы считать свойственной только каждой из них и которая не встречалась бы у других по причине их единосущности, была бы соотносимость по происхождению. Однако эту соотносимость должно понимать апофатически: это прежде всего отрицание, указывающее на то, что Отец - не Сын и не Дух Святой, что Сын - не Отец и не Дух, что Святой Дух - не Отец и не Сын. Рассматривать эту соотносимость иначе, значило бы подчинять Троицу одной из категорий аристотелевой логики - категории соотношения (или связи). Воспринятая апофатически, эта связанность отмечает различие, но тем не менее не указывает, "каким именно образом" Лица Пресвятой Троицы происходят. "Образ рождения и образ исхождения для нас непостижим", - говорит святой Иоанн Дамаскин. "Что, конечно, различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали, но какой образ различия - этого никак не постигаем" [20]. Уже святой Григорий Богослов должен был отклонить попытки определять модус происхождения Лиц Святой Троицы. "Ты спрашиваешь, - говорит он, - что такое исхождение Духа Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца, тогда в свою очередь я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождаемость Сына и исхождение Святого Духа. И мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии" [21]. "Ты слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй знать, как исходит" [22]. Действительно, если соотношения по происхождению - нерождаемость, рождение и исхождение, по которым мы различаем три Ипостаси, приводят нашу мысль к единому Источнику Сына и Святого Духа - к phgaia JeothV, к Источнику Божества [23] - Отцу, они этим не устанавливают особых отношений между Сыном и Духом Святым. Эти два Лица различаются модусом своего происхождения: Сын от Отца рождается, Святой Дух от Отца исходит. Этого достаточно для их различения.
Возражения святого Григория Богослова показывают, что тринитарные рассуждения, не удовлетворившись формулой исхождения Святого Духа dia uiou - "через Сына", или "в соотношении с Сыном" (выражение, имеющееся у святых отцов и означающее чаще всего миссию в мире Святого Духа через посредничество Сына), пытались установить связь между Сыном и Духом Святым по их ипостасному происхождению. Это отношение между обоими Лицами, происходящими от Отца, было установлено западным учением об исхождении Святого Духа аb utroque, то есть одновременно от двух Лиц - от Отца и Сына. Именно Filioque и был единственной догматической причиной, был "первопричиной" разделения Востока и Запада; остальные доктринальные разногласия - только его последствия. Чтобы понять, что именно восточные отцы хотели защитить, возражая против западной формулы и ее не принимая, достаточно сопоставить обе тринитарные концепции в том виде, в каком они противопоставлялись к середине IX века.
Как мы уже сказали, западная мысль в своем изложении тринитарного догмата чаще всего отправлялась от единой природы, чтобы прийти к Лицам, тогда как греческие отцы шли путем противоположным - от трех Лиц к единой природе. Святой Василий Великий предпочитал этот последний путь, отправлявшийся от конкретного, в соответствии со Священным Писанием и крещальной формулой, именующей Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, мысль не могла блуждать, когда сначала созерцала Лица, чтобы затем перейти к созерцанию их общей природы. Однако оба эти пути были вполне законны, поскольку они не предполагали, в первом случае, первенства единой сущности над тремя Лицами, во втором - первенства трех Лиц над общей природой. И действительно, мы видим, как святые отцы, чтобы установить различие между природой и Лицами и не выделять при этом ни одного, ни другого, пользуются двумя синонимами - ousia и upostasiV.
Когда утверждаются Лица (или Лицо), одновременно утверждается и природа, и обратно, ибо природа не мыслится вне Лиц или же "прежде" Лиц, хотя бы и в логическом порядке. Если мы нарушаем в ту или другую сторону равновесие этой антиномии между природой и Лицами, абсолютно тождественными и одновременно абсолютно различными, мы уклоняемся или в савеллианский унитаризм (Бог-эссенция философов), или в тритеизм. В формуле исхождения Святого Духа от Отца и Сына греки увидели тенденцию подчеркнуть единство природы в ущерб реальному различению Лиц: соотношения по происхождению, не приводящие Сына и Духа непосредственно к Единому Источнику - Отцу, Одного - как Рожденного, Другого - как Исходящего, - становятся некоей "системой соотношений" в единой сущности, чем-то логически сущности последствующим. Действительно, в умозрении Западной Церкви Отец и Сын изводят Дух Святой, поскольку Они представляют единую природу; в свою очередь Святой Дух, Который для западных богословов является "связью между Отцом и Сыном", означает природное единство двух первых Лиц. Ипостасные свойства (отцовство, рождение, исхождение) оказываются более или менее растворенными в природе или сущности, которая как начало единства Святой Троицы становится дифференцированным соотношением: соотносясь к Сыну - как Отец, к Святому Духу - как Отец и Сын. Отношения, вместо того, чтобы отличать Ипостаси, с Ними отождествляются. Позднее святой Фома Аквинский это и скажет: "Название "Лицо" означает отношение" [24], то есть отношение внутри-сущностное, которое ее - сущность - разнообразит. Мы не станем отрицать разницы между такой концепцией троичности и концепцией, скажем, святого Григория Богослова, который видит в Ней (Троице) "три святыни, которые сходятся в единое Господство и Божество" [25]. Реньон совершенно справедливо замечает: "Латинская философия сперва рассматривает природу в себе, а затем доходит до ее Носителей; философия греческая рассматривает сперва Носителей и проникает затем в Них, чтобы найти природу. Латинянин рассматривает Лицо как модус природы, грек рассматривает природу как содержание Лица" [26].
Греческие отцы всегда утверждали, что начало единства в Святой Троице - Личность Отца. Будучи началом двух других Лиц, Отец тем самым является пределом соотношений, от которых Ипостаси получают свое различение: давая Лицам их происхождение. Отец устанавливает и их соотношение с единым началом Божества как рождение и исхождение. Поэтому Восточная Церковь и воспротивилась формуле "Filioque", которая как бы наносила урон единоначалию Отца: или надо было нарушить единство и признать два начала Божества, или же обосновывать единство, прежде всего общностью природы, которая тем самым выдвигалась бы на первый план, превращая Лица во взаимо-связи внутри единой сущности. Для западных соотношения "разнообразят" первичное единство; для восточных они одновременно означают и различие и единство, ибо они относятся к Отцу, Который и есть Начало и "воссоединение" sugke falaiosiV ) Троицы. Именно в этом смысле святой Афанасий Великий понимает изречение святого Дионисия Александрийского: "Нераздельную Единицу мы распространяем в Троицу и неумаляемую Троицу опять сводим в Единицу" [27]. И в другом месте он заявляет: "Одно начало Божества и единоначалие в собственном смысле" [28]. По выражению греческих отцов, "один Бог, потому что один Отец". Лица и природа полагаются, если можно так сказать, одновременно, без того, чтобы одна логически предшествовала другим. Отец - phgaia Jeothz, Источник всякого Божества в Троице, изводит Сына и Святого Духа, сообщая Им Свою природу, которая остается единой и нераздельной, самой себе в Трех Лицах тождественной. Исповедывать единую природу - для греческих отцов означает видеть в Отце Единый Источник Лиц, получающих от Него ту же природу. "По моему суждению, - говорит святой Григорий Богослов, - сохраняется вера в единого Бога, когда мы относим Сына и Духа к единому Началу, не слагая и не смешивая Их и утверждая тождество сущности, а также то, что можно назвать единым и тем же самым движением и хотением Божества" [29]. "У нас один Бог, потому что Божество одно. И к Единому возводятся Те, Которые происходят от Него, будучи Тремя по вере... Поэтому, когда имеем в мысли Божество, - Первопричину и единоначалие, - тогда представляемое нами - одно. А когда мы имеем в мысли Тех, в Которых Божество и Которые происходят от Первоначала довременно и равночестно, тогда покланяемся Трем" [30]. Святой Григорий Богослов до такой степени сближает здесь Божество и Лицо Отца, что можно было бы подумать, что он Их смешивает. Но в другом месте он уточняет свою мысль: "... естество в Трех единое - Бог, Единение же ( enasiz ) - Отец, из Которого Другие и к Которому Они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним и не разделяемые между Собою ни временем, ни хотением, ни могуществом" [31]. Святой Иоанн Дамаскин выражает ту же мысль со свойственной ему точностью: Отец... "Сам от Себя имеет бытие и из того, что имеет, ничего не имеет от другого; напротив, Он Сам есть для всего начало и причина того образа, как оно существует от природы.... Итак, все, что имеет Сын и Дух имеет от Отца, даже самое бытие. И если что не Отец, то не есть ни Сын, ни Дух; и если бы чего не имел Отец, того не имеет Сын и Дух; но через Отца, то есть потому, что существует Отец, существует Сын и Дух; и через Отца имеет Сын, также и Дух все, что имеет, потому, что Отец имеет все это... Когда мы рассматриваем в Боге Первопричину, единоначалие... мы видим Единицу. Но когда мы рассматриваем Тех, в Ком Божество или, вернее, Тех, Которые Сами Божество, Лица, Которые происходят из Первопричины, ... то есть Ипостаси Сына и Духа, - тогда мы покланяемся Трем" [32].
Но учению святого Максима Исповедника, именно Отец дает различения Ипостасям "в вечном движении любви" ( acronwz kai agaphtikwz ) [33]. Он сообщает Свою единую природу равным образом и Сыну и Святому Духу, в Которых она пребывает единой и нераздельной, хотя и сообщается различным образом, ибо исхождение Святого Духа от Отца не тождественно рождению Сына от Того же Отца. Являемый чрез Сына и вместе Сыном, Святой Дух существует как Божественное Лицо от Отца исходящее, как об этом ясно говорит святой Василий Великий: "От Отца происходит Сын, Которым все получило бытие и с Которым всегда неразлучно представляется нашему уму Святой Дух, ибо невозможно помыслить о Сыне, не будучи просвещенным Духом Святым. Таким образом, с одной стороны Дух Святой, Источник всех подаваемых твари благ, связан с Сыном, с Которым Он представляется неразлучно; с другой стороны, Его бытие зависит от Отца, от Которого Он исходит. Следовательно, отличительный признак ипостасного Его свойства есть тот, что Он проявляется после Сына и с Сыном, а бытие имеет от Отца. Что касается Сына, Который Собою и вместе с Собою дает познавать Духа, исходящего от Отца, только Он сияет от нерожденного Света, как единственный Сын; это Его собственный признак, который отличает Его от Отца и от Святого Духа и обозначает Его как личность. А сый над всеми Бог один имеет тот преимущественный признак Своей Ипостаси, что только Он есть Отец и не происходит ни из какого начала; именно по этому признаку Он познается как Личность" [34]. Святой Иоанн Дамаскин выражает свое мнение не менее точно, различая Лица Святой Троицы и не подчиняя их категории отношений: "Должно же знать, что мы не говорим, что Отец происходит от кого-либо, но Самого называем Отцом Сына. Не говорим, что Сын - причина, не говорим и того, что Он - Отец, но говорим, что Он и от Отца и Сын Отца. И о Святом Духе говорим, что Он от Отца и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, а называем Его Духом Сына ( ek tou Uiou de to Pneuma ou legomen, Pneuma de Uiou onomazomen )" [35].
Слово и Дух суть два луча того же Солнца, или, по слову святого Григория Богослова, "вернее, два новых Солнца" в Своем проявлении Отца неразлучные, и тем не менее, как два Лица, происходящие от Того же Отца, неизреченно различные. Если, согласно латинской формуле, ввести между ними какое-нибудь новое соотношение по происхождению, допуская исхождение Святого Духа от Отца и Сына, то единоначалие Отца - то личное отношение, которое одновременно создает и единство и троичность, - уступило бы место другому понятию - понятию единой субстанции, в которой соотношения обосновывали бы различие между Лицами и где Ипостась Святого Духа была бы только лишь взаимной связью между Отцом и Сыном. Если мы уловим разницу в аспектах этих двух учений о Святой Троице, то поймем, почему восточные отцы всегда защищали неизреченное, апофатическое исхождение Святого Духа от Отца, как единого Изводителя Лиц, против учения более рационального, которое, превращая Отца и Сына в общее начало Святого Духа, ставило общее над личностным; в этом учении была тенденция как бы "обезличить" Ипостаси, смешивая Божественные Личности Отца и Сына в природном акте извождения Духа и превращая таким образом Третье Лицо в связь между двумя первыми.
Но учению святого Максима Исповедника, именно Отец дает различения Ипостасям "в вечном движении любви" ( acronwz kai agaphtikwz ) [33]. Он сообщает Свою единую природу равным образом и Сыну и Святому Духу, в Которых она пребывает единой и нераздельной, хотя и сообщается различным образом, ибо исхождение Святого Духа от Отца не тождественно рождению Сына от Того же Отца. Являемый чрез Сына и вместе Сыном, Святой Дух существует как Божественное Лицо от Отца исходящее, как об этом ясно говорит святой Василий Великий: "От Отца происходит Сын, Которым все получило бытие и с Которым всегда неразлучно представляется нашему уму Святой Дух, ибо невозможно помыслить о Сыне, не будучи просвещенным Духом Святым. Таким образом, с одной стороны Дух Святой, Источник всех подаваемых твари благ, связан с Сыном, с Которым Он представляется неразлучно; с другой стороны, Его бытие зависит от Отца, от Которого Он исходит. Следовательно, отличительный признак ипостасного Его свойства есть тот, что Он проявляется после Сына и с Сыном, а бытие имеет от Отца. Что касается Сына, Который Собою и вместе с Собою дает познавать Духа, исходящего от Отца, только Он сияет от нерожденного Света, как единственный Сын; это Его собственный признак, который отличает Его от Отца и от Святого Духа и обозначает Его как личность. А сый над всеми Бог один имеет тот преимущественный признак Своей Ипостаси, что только Он есть Отец и не происходит ни из какого начала; именно по этому признаку Он познается как Личность" [34]. Святой Иоанн Дамаскин выражает свое мнение не менее точно, различая Лица Святой Троицы и не подчиняя их категории отношений: "Должно же знать, что мы не говорим, что Отец происходит от кого-либо, но Самого называем Отцом Сына. Не говорим, что Сын - причина, не говорим и того, что Он - Отец, но говорим, что Он и от Отца и Сын Отца. И о Святом Духе говорим, что Он от Отца и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, а называем Его Духом Сына ( ek tou Uiou de to Pneuma ou legomen, Pneuma de Uiou onomazomen )" [35].
Слово и Дух суть два луча того же Солнца, или, по слову святого Григория Богослова, "вернее, два новых Солнца" в Своем проявлении Отца неразлучные, и тем не менее, как два Лица, происходящие от Того же Отца, неизреченно различные. Если, согласно латинской формуле, ввести между ними какое-нибудь новое соотношение по происхождению, допуская исхождение Святого Духа от Отца и Сына, то единоначалие Отца - то личное отношение, которое одновременно создает и единство и троичность, - уступило бы место другому понятию - понятию единой субстанции, в которой соотношения обосновывали бы различие между Лицами и где Ипостась Святого Духа была бы только лишь взаимной связью между Отцом и Сыном. Если мы уловим разницу в аспектах этих двух учений о Святой Троице, то поймем, почему восточные отцы всегда защищали неизреченное, апофатическое исхождение Святого Духа от Отца, как единого Изводителя Лиц, против учения более рационального, которое, превращая Отца и Сына в общее начало Святого Духа, ставило общее над личностным; в этом учении была тенденция как бы "обезличить" Ипостаси, смешивая Божественные Личности Отца и Сына в природном акте извождения Духа и превращая таким образом Третье Лицо в связь между двумя первыми.










