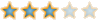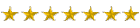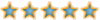– На этой фотографии мы с клоуном-партнером в жёлтых рубашках стоим в больничном коридоре, светит солнце, и создаётся иллюзия, что где-то здесь за углом море. То ли Одесса, то ли Италия, то ли Португалия, где мы были на конференции больничных клоунов. Солнца всегда не хватает зимой, и когда оно появляется, настроение поднимается у любого: у меня, у клоуна-партнера, у детей. Сразу становится так светло, что хочется хулиганить.
– Один из часто задаваемых вам вопросов: разве можно насмешить того, кому сейчас не до смеха, зачем насильно веселить детей? Какая задача у больничной клоунады?
– Действительно есть такой дурацкий миф, когда о нас говорят: «Дайте детям умереть спокойно». Но зачем наклеивать такие шаблоны? Мы работаем уже 13 лет, и нас ни разу не выгоняли из палаты. Сначала всегда спрашиваем: «Можно?» И если нам говорят «нет», то уходим.
Работу клоуна можно сравнить с работой психолога. В команде с врачами мы можем вывести ребенка из какой-то закрытой эмоциональной ситуации.
Был такой случай: после операции или химиотерапии мальчик Паша лет 6-7 очень сильно ушел в себя и перестал коммуницировать с миром, даже с мамой и бабушкой. В таком состоянии он был неделю. Заведующая отделением попросила нас прийти к нему. Пришли.
Сначала Паша сидел в закрытой позе. Потом дал нам руки, положил их на баян, начал жать на клавиши, а мы раздвигали меха. Затем Паша стал разводить руки, обнимать клоуна-напарника и меня. Недели через три мы его не узнали: он бегал, разговаривал без умолку. То есть он при нас начал выходить из этого кокона.
Родители часто говорят, что ребенок возвращался в больницу на проверку, потому что там есть клоун, с которым он раньше общался.

Трагедия происходит, и как юрист ты не можешь помочь
– Как получилось, что профессиональный юрист, выпускник юридического факультета НИУ ВШЭ стал клоуном?
– Я занимался в театре-студии при Высшей школе экономики. У нас преподавали Ольга Глушко, Ирина Сиротинская, Нелли Уварова, Алексей Мусин – много талантливых актёров. Они нам привили честное отношение к сцене. И одно из направлений было цирковое. Клоунадой меня заразили окончательно.
А потом друг – волонтер фонда помощи при Российской детской клинической больнице «Дети.мск.ру» (региональный общественный благотворительный фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям, проект службы милосердия и благотворительности РДКБ. – Прим. ред.) – увидел мои театральные клоунские фотографии и привел меня как волонтера в фонд. Наша организация до сих пор дружит с этим фондом.
– А почему именно больница? Ведь вы работали в юридической фирме, юриспруденция же тоже – помощь людям.
– Я изначально шел в этом направлении, но потом разочаровался. Не в профессии, а скорее в себе в профессии. Друг ушел, сгорел вместе с подругой… С того момента я понял, что надо что-то делать, чтобы жизнь и каждый её день не были прожиты зря. После этой смерти ощущение того, что хочется найти смысл жизни, очень остро встало передо мной и многими моими одногруппниками. Кто-то пошел в одну сферу, кто-то в другую.
В тот момент случилась трагедия в Беслане. Это меня окончательно с рельсов юристов выкинуло. Понял, что надо делать что-то для других. Такое происходит, и ты не можешь как юрист ничем помочь. Значит, надо найти направление, где ты можешь.
Я пошел туда, куда меня повело. Но мне кажется, это был верный шаг. И я на своём месте, надеюсь. Потом уже как профессиональный больничный клоун я ездил в Беслан, работал с бесланскими детьми в РДКБ.
Бог привёл. «Тут ты не разберешься, здесь не разберёшься. Вот это твоё». – «Так это моё любимое!» – «Бери!» Учился в Португалии, стажировался в Париже, Голландии, Израиле, Австрии, Испании. Через пять лет решил создать свою организацию, обучать людей и продвигать это дело в регионы. У меня и жена – больничный клоун.
– Была ли мысль, что вы уходите от успеха?
– Я не думал об этом. Может быть, я не карьерист, никогда не ставил деньги во главу угла. Я пошел туда, где мне нравилось. С Божьей помощью удалось создать организацию и найти финансирование, чтобы это ещё и приносило деньги. В Москве у нас 28 клоунов, а остальные 24 – в регионах. Наши ребята работают в Ростове, Казани, Орле, Санкт-Петербурге, Рязани.
– Помните свой первый выход?
– Да! На мне была жёлтая рубашка, оранжевый строительный комбинезон, синяя шапка, как у гнома. Белое лицо, синие глаза, яркий контур рта – друг так загримировал. Это была жирная масляная краска, было очень тяжело дышать, я вспотел, даже где-то грим подтек, но мне понравилось. Дети сами придумывали игры, видимо, соскучились по общению. Они феерили и заряжали меня, на любое предложение говорили «да». И дальше пошло-пошло-пошло.

Скорый уход детей дает желание делать больше
– Кто ваши пациенты? Только дети?
– В первую очередь ребёнок, а также мама, врач, медсестра. И даже спонсоры, которых мы постоянно мотивируем: «Мы помогаем детям, помогите нам помочь им более качественно и системно».
– А какой ребёнок запомнился вам больше всех?
– Детей много, все разные. Настя, которую я впервые как волонтер фонда повёз в зоопарк смотреть на белугу и дельфинов – это была её мечта, правда, последняя. В Кургане она ушла. Ее папа был пожарным на Чернобыльской АЭС. Потом была Даша – девочка-сирота, после взрыва бомбы в Абхазии потерявшая родителей и находящаяся в вегетативном состоянии в РДКБ. Настя Рогалевич, которой собирали деньги на операцию по пересадке печени. Тогда была трагедия, что мы не успели… Потом был Дима Рогачев – дружбан, победивший лейкоз, но, к сожалению, умерший от сопутствующего заболевания после химиотерапии.
Ваня, Ваня, Даша, Аня, Аня, маленькая рыженькая Аня, Катя, Ванечка… Очень много. Я перечисляю имена в порядке, в котором обычно указываю в записках об упокоении. Всех, кого помню. Так много детей и так много выходов, что, наверное, память обрезает… Помнишь трагичные моменты, уход, но и тех, кто выздоровел. Маша, Таня, Лена, Антон, Денис, Вова… Они уже подростки. С ними мы иногда общается, ребята спустя год, два, три могут писать. Мы же о себе не напоминаем. Мне кажется, не нужно напоминать детям о болезни, если они уже выздоровели.
– Как вы вообще смиряетесь с тем, что дети уходят?
– Это не то что смирение, это допущение, что я не могу все контролировать. Есть какое-то провидение, у Бога на мир есть Свой взгляд, который я не могу пока понять своим умом. Но это не значит, что я меньше верю или больше возмущаюсь. Я допускаю, что это не в моей власти. Работаю ради живых.
– В вас это не уменьшает желание работать в больнице?
– Я думаю, наоборот, увеличивает. Благодаря пониманию бренности этого мира и смертельности заболевания хочется успеть больше, посетить больше детей и сделать сильнее организацию.
Я работал клоуном и первые полтора года занимался в больнице при фонде ещё и организацией похорон детей. В этом плане прививка от безделья и от депрессии мне была сделана колоссальная.
Мы видим в ребёнке партнера по радости
– В одном из интервью вы сказали: «Страшен теперь не выговор от начальства, страшно недоработать». Как вы понимаете, что доработали?
– Доработать – это так грамотно распределить свои силы по всему отделению в больнице, чтобы последние палаты не были халтурой и технической работой. Чтобы хватило сил на всех. Это важно.
– Какие типажи родителей вам встречаются и как складываются отношения с врачами?
– Врачи разные. Бывают суровые, есть те, кто обожает детей, но без эмоций, некоторые готовы обнимать, целовать и на руках носить. Мы пытаемся с каждым общаться как с равным партнером. Так же и родители: разговорчивые, неразговорчивые, с юмором, надменно грубые, но на самом деле добрые, закрытые, плачущие – они все разные. Стараемся к каждому найти подход, чтобы никого не ранить и не напугать.
Однажды выходим из палаты, а нас спрашивают: «Вы что, здесь родителей веселите, а детей нет?»
Все, что вызывает у ребёнка улыбку или усмешку через родителя, тоже замечательно.
Когда улыбается мама, улыбается и ребёнок. Они же единое целое, особенно в первые годы жизни.
– Больничным клоунам приходится наблюдать за болезнью ребенка и вместе с этим шутить?
– Мы видим ребёнка, но не его болезнь. Мы видим партнера по игре, партнера по радости. Про болезнь, например, что это онкология, мы догадываемся, потому что работаем в онкологических клиниках, в иммунологических и ортопедических отделениях. Но мы не врачи, мы не ставим диагнозы, не прогнозируем и не боремся с болезнью.
Мы со скукой боремся, с равнодушием, ленью, пассивностью. Даже не боремся, а взаимодействуем, чтобы как-то расшевелить это добровольно, мягко и ненавязчиво. Мы создаём настроение. И нам полегче. Конечно, иногда видим родительские слезы, но я не встречал горюющих детей. В больнице всё равно остаётся детство.– Вы сказали «партнёр по радости». Больничного клоуна так и называют?
– Это фраза из французского кодекса больничных клоунов. Мы его перевели и адаптировали. Не брать деньги и благодарности, не обсуждать процесс лечения, не навредить, не спорить с врачом, не навязываться родителям и ребенку – его краткое содержание.

Смерть – это горечь утраты, но и радость обновления
– Константин, а к вере вы как пришли?
– Наверное, было два момента. После похорон друга я начал задумываться о смерти и бессмертии, о душе. Потом стал работать волонтером фонда при РДКБ, а в клоунскую одежду переодевался в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
И фонд, и храм находятся прямо в здании больницы, в большом зале. Их основал ещё отец Александр Мень. А тогда настоятелем храма был отец Георгий Чистяков. Я с ним познакомился, ходил на службы, причащался. Вот такой получился двойной приход к вере.
– Наверное, как многие родители и врачи, вы искали ответ на вопрос, почему болеют дети?
– Ну да… Потому что все болеют. Кто-то тяжелее, кто-то меньше. Главное – чтобы мы, не опуская руки, до конца лечения делали всё возможное, чтобы ребенку было легче, чтобы его спасти. Тогда это хорошая история, чем бы она ни закончилась.
– А что вы думаете о смерти?
– Я думаю, смерть – это данность, которую никто не может изменить. И в этом, конечно, есть горечь утраты. И радость, что жизнь идет, обновляется и что-то изменится сегодня, завтра, через 20 лет. На семинарах по смерти мы говорим: «Вот представьте, никто не умирает. Буквально через пять лет начнётся перенаселение. Ни воды, ни еды, ни воздуха не хватит. Начнётся ад». Законы природы работают на сохранение вида, и в этом её мудрость.
– Всегда было такое отношение?
– Мне кажется, что ничего не поменялось. Как я поставил себе маяки лет 12 назад, так они и остаются. Появились дети, переживаешь за их жизнь, здоровье, за свою, немножечко больше нервничаешь. Но то, что ты думаешь, не отдалит твой уход. Фрустрация иногда начинается, но она бессмысленна.
– У вас есть рецепт оптимизма?
– Оптимистом можно быть везде. Без оптимизма смысл существовать есть, а смысла жить нет.
Жить – это кайфовать хотя бы от одного часа каждый день. А лучше от всего дня.
А как этому научиться, я не знаю. Учиться своими желаниями. Делать то, что нравится. А если это дело еще и для кого-то, то есть социально значимо и полезно, это вообще круто. Мне повезло, я нашёл такое предназначение, призвание.
– Когда вы это поняли?
– Ровно 12 лет назад. В 2005 году. Понял, что это гигантский обмен энергиями. И я результат вижу здесь и сейчас. Я очень нетерпеливый. Мне нужно, чтобы результат «Оп!» и был. А не чтобы семечко бросил, и только через полгода оно прорастет. Я засну! А результат за секунду я люблю. И дети эту возможность мне предоставляют.