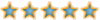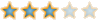Я держала бабушку под руку. Заходили в избу: на Дону ее называют «связь». Такая длинная изба с тремя комнатами: две отапливались. В одной бабушка жила. Около входа настоящая русская печь, рядом с кроватью сундук, около маленьких окон — длинная деревянная лавка. В сундуке — две темные юбки, пиджак, да смертный тугой узел с бельем. Иногда бабушка открывала сундук и вздыхала, доставая мне конфетки:
«Ничего я не накопила. Душили нас налогами страшно. Растет сливовое дерево — сдавай сливы, растут яблони — сдавай яблоки, зарезал поросенка — отнеси шкуру и сало, имеешь корову — сдавай молоко и масло. И работали мы за «палочки». Это так учитывались трудодни. Чуть рассвет — стук в окно. Это бригадир Аверя — жужелица! — колотит ручкой нагайки. «Вставайте!» До поздней ночи мы работали. А в конце дня Аверя наклонит свою патлатую черную голову над засаленной толстой тетрадью, послюнявит карандаш и поставит палочку. Он был на хуторе главным начальником. Что хотел, то и творил. Мог и нагайкой через спину протянуть. Доставалось. Он возненавидел моего мужа Василия Яковлевича, писал на него доносы в станицу. Как же! Приехал из города, да еще грамотный. Вот и завидовал.
Однажды этот Аверя проклятый нашу корову столкнул в овраг. Паслась скотина в общем хуторском гурте, видно, подошла близко к краю обрыва — Аверя ее и толкнул. Бабы видели. Я как узнала, бежала, ног под собой не чуяла. Гляжу вниз, а она, кормилица, еще дышала. Быстро, быстро. Так и умерла у меня на глазах. Аверя стоял рядом, улыбался, нагайкой похлопывал по сапогу… Не могу, не проси, не хочу дальше вспоминать, как мы голодали с твоей матерью Щурой».
«Ничего я не накопила. Душили нас налогами страшно. Растет сливовое дерево — сдавай сливы, растут яблони — сдавай яблоки, зарезал поросенка — отнеси шкуру и сало, имеешь корову — сдавай молоко и масло. И работали мы за «палочки». Это так учитывались трудодни. Чуть рассвет — стук в окно. Это бригадир Аверя — жужелица! — колотит ручкой нагайки. «Вставайте!» До поздней ночи мы работали. А в конце дня Аверя наклонит свою патлатую черную голову над засаленной толстой тетрадью, послюнявит карандаш и поставит палочку. Он был на хуторе главным начальником. Что хотел, то и творил. Мог и нагайкой через спину протянуть. Доставалось. Он возненавидел моего мужа Василия Яковлевича, писал на него доносы в станицу. Как же! Приехал из города, да еще грамотный. Вот и завидовал.
Однажды этот Аверя проклятый нашу корову столкнул в овраг. Паслась скотина в общем хуторском гурте, видно, подошла близко к краю обрыва — Аверя ее и толкнул. Бабы видели. Я как узнала, бежала, ног под собой не чуяла. Гляжу вниз, а она, кормилица, еще дышала. Быстро, быстро. Так и умерла у меня на глазах. Аверя стоял рядом, улыбался, нагайкой похлопывал по сапогу… Не могу, не проси, не хочу дальше вспоминать, как мы голодали с твоей матерью Щурой».