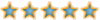Иностранцы в ГУЛАГе
Слово «ГУЛАГ», один из самых известных «брендов» прошлого века, никому ничего не говорило в те годы, когда лагеря еще работали. Великие злодеяния сталинской системы остались незамеченными современниками при ее жизни. Главное Управление прославилось уже после формального упразднения сталинских лагерей, во второй половине ХХ века. Первая информация о советском кошмаре стала просачиваться наружу только в начале 50-х годов, когда из тюрем начали выходить выжившие в них иностранцы, случайно угодившие под сталинский каток. Они начали говорить; советские заключенные не могли сделать и этого.
Лагерная система была одним из столпов раннего большевистского режима. Разумеется, тюрьмы существуют в любом государстве, однако большевики с самого начала решили пойти гораздо дальше и органично вплели в свою экономику труд заключенных, усилиями которых осваивались отдаленные районы страны и велись стройки коммунизма.
Недостатка в обитателях лагерей никогда не было, поскольку большевики декларировали диктатуру пролетариата и всех активно несогласных с ней стали отправлять в лагеря. Дальше дело пошло так хорошо, что за колючую проволоку начали уезжать даже преданные сторонники коммунистических идей. Лагеря росли и укрупнялись: например, знаменитый Соловецкий лагерь в начале 20-х насчитывал 2,5 тысячи заключенных, а к 1931 году уже 71 тысячу. И это при том, что Большой террор еще не начался.
Традиционно считается, что ГУЛАГ был бедой только советских людей. Действительно, подавляющее большинство заключенных составляли обитатели СССР. Но иногда в советские лагеря попадали и иностранные граждане. Их было не так много, но для них опыт ГУЛАГа стал столь шокирующим, что выжив и освободившись, они писали об этом целые книги, из которых западное общество и узнало о сталинской системе. Узнало и поначалу не поверило.
Долгое время о ГУЛАГе ничего не знали за границей. Редкие статьи (обычно в антикоммунистических изданиях), построенные в основном на слухах, либо никто не замечал, либо их в пух и прах громила левая пресса. Интеллектуалы отказывались верить, что в государстве победившей пролетарской революции могут твориться такие ужасы.
ГУЛАГ как система появился в 1930 году, а первая книга, описывающая непосредственно гулаговские будни, вышла в Болгарии в 1938-м. Ее автор — Борис Солоневич, брат известного Ивана Солоневича. «День врача в концлагере» вскоре переиздали небольшим тиражом в Германии и Франции. В том же году в Германии вышла книга немца, побывавшего в советском заключении. Карл Альбрехт, ветеран Первой мировой войны, после ее бесславного окончания увлекся коммунистическими идеями и по протекции коминтерновца и видного немецкого коммуниста Вилли Мюнценберга в 1924 году перебрался в СССР, где довольно быстро дорос до заместителя наркома лесного хозяйства (!).
Однако к 1932 году в стране Cоветов подули совсем другие ветры и товарища Альбрехта арестовали как немецкого шпиона. В ряде источников даже указано, что его приговорили к смертной казни. Но тогда СССР еще не пустился во все тяжкие и иностранных граждан пока побаивались трогать «всерьез». Поэтому спустя полтора года Альбрехта выслали в Германию, где к власти как раз пришли нацисты. Альбрехт попал теперь уже в гестапо — по подозрению в шпионаже в пользу коммунистов. Однако вскоре его отпустили.
Год в советской тюрьме произвел на Альбрехта такое впечатление, что он сразу же разочаровался в коммунизме и стал преданным национал-социалистом. Кроме того, его русскую жену не выпустили из СССР вместе с ним. В 1938 году в Германии вышла книга «Преданный социализм». Ее содержание в основном сводилось к тому, как все плохо в СССР: диктатура, бесправие, голод, плохая организация. Тюремному опыту уделялась только небольшая часть книги, тем более что и сидел Альбрехт по советским меркам совсем чуть-чуть.
После заключения пакта Молотова-Риббентропа в Германии резко снизили накал антисоветской пропаганды, однако с началом войны с СССР про «Преданный социализм» вспомнили и переиздали достаточно крупным тиражом.
Однако это были единичные всплески. Европа узнала о советских порядках только после шумных судебных процессов — «дела Кравченко» в 1949 году и «дела Руссе», последовавшего вскоре за ним. В 1946 году появились сразу две книги: «Я выбрал свободу» Кравченко и «Концентрационный мир» Руссе. Кравченко — советский невозвращенец, он написал книгу о жизни в СССР, в основном про ужасы коллективизации, которые видел сам. Книга вышла во Франции 500 тысячным тиражом и вполне могла остаться незамеченной, если бы медвежью услугу не оказали французские коммунисты. Они через свои СМИ ополчились на Кравченко, начав кампанию против «грязного клеветника и лжеца». Тот в ответ подал в суд. В 1949 году во Франции начался открытый процесс, который в итоге нанес куда больше репутационных и имиджевых потерь СССР, чем сама книга. Забавно, что в защиту советской стороны на процессе выступал настоятель Кентерберийского собора Хьюитт (за что получил Сталинскую премию). Чуть ли не под конвоем из СССР доставили несколько свидетелей: доказать, что вся информация Кравченко — ложь.
Процесс любопытен тем, что в поддержку Кравченко впервые выступали иностранцы, побывавшие в системе ГУЛАГа. Со стороны обвинения на процессе выступила немецкая коммунистка Маргарет Бубер-Нойман, вдова Гейнца Ноймана. Нойман, видный немецкий коммунист и деятель Коминтерна, не пережил 1937 год. Его жену арестовали и отправили на спецпоселение, а в 1940 году выдали гестапо — она просидела в Равенсбрюке до самого конца войны. Позже Маргарет тоже написала книгу воспоминаний под названием «Пленница Сталина и Гитлера», окончательно разочаровалась в коммунизме и перешла к христианским демократам.
С делом Руссе случилась похожая история. Давид Руссе был французским журналистом-троцкистом. Именно он популяризовал термин «ГУЛАГ» в западной прессе. Впрочем, Руссе не ограничивался только советскими лагерями, а выступал против подобных лагерных систем повсюду. Он организовал «Интернациональную комиссию по борьбе с концентрационными лагерями» и даже достучался до ООН, где ему дали выступить.
Вскоре стали появляться первые мемуары «наполовину иностранцев». После распада СССР многие подданные Российской Империи оказались в независимой Польше и других странах и стали их гражданами. В СССР все они считались «своими иностранцами» и «обслуживали» их как своих, если СССР вдруг приходил на эти территории. К примеру, немало белых эмигрантов из Восточной Европы после войны захватил СМЕРШ — их отправляли в советские лагеря. Первые мемуары о ГУЛАГе писали как раз эти люди.
В 1949 году в Париже появилась книга Юзефа Чапского «На бесчеловечной земле». Чапский родился в Российской Империи, его дядя был губернатором Минска, сам он учился в Петербурге, воевал в Императорской армии в годы Первой мировой, дружил с Зинаидой Гиппиус и, к слову, приходился двоюродным братом советскому наркому иностранных дел Чичерину. После революции он перебрался в Польшу и получил польское гражданство. С началом Второй мировой войны Чапского призвали на фронт, и после раздела Польши он оказался в советском плену. Юзеф два года провел в лагерях для военнопленных — ему крупно повезло, что его не расстреляли. Затем Чапского и других уцелевших офицеров выпустили, разрешив присоединиться к армии Андерса. Юзеф активно занимался выяснением судьбы пропавших польских офицеров. Формально его воспоминания тоже нельзя отнести к числу работ о ГУЛАГе, как и мемуары Бубер-Нойман, поскольку Чапский сидел в лагере для пленных офицеров, а не в классическом трудовом лагере, а Бубер-Нойман жила на спецпоселении.
Первое полноценное воспоминание о пребывании в системе ГУЛАГа оставила голландская (по другим данным швейцарская, по третьим — бельгийская, по четвертым — немецкая) коммунистка Элинор Липпер, в 1950 году опубликовавшая мемуары «Eleven years in Soviet prison camps». Книга вышла в США и привлекла некоторое внимание. Однако знаменитой Липпер так и не стала — ее биографию невозможно отыскать ни на русском, ни на английском языке.
Следом опубликовал мемуары «свой» иностранец Юлий Марголин. Он родился в Российской Империи, после революции перебрался в Германию, потом в Польшу и Палестину. На свою беду прямо накануне войны Марголин приехал в Польшу навестить родственников — и тут Пинск присоединили к СССР. Поскольку Марголин в прошлом имел русское подданство, с ним и обошлись как со своим — отправили на 5 лет в лагеря как социально опасного. В 1945 году Марголин освободился и перебрался в социалистическую Польшу, а оттуда сумел выехать в Палестину. Он оставил мемуары «Путешествие в страну зе-ка», впечатления далекого от советской жизни иностранца, на собственном опыте соприкоснувшегося с лагерной системой:
На всем лежала тень какой-то пустынной и мрачной угрюмости. Глухая, заброшенная сторона. На поворотах наш маленький паровозик оглушительно свистел, и на деревянных щитах у полотна мы читали непонятную для нас надпись: «Закрой поддувало».
Мы были «иностранцы», которых сразу можно было узнать по желтым и зеленым чемоданам, по пиджакам и пальто, по верхним рубашкам всех цветов, по европейской обуви и по разнообразию костюмов. Как мы были богаты, как мы были пестры и неодинаковы — это мы поняли только когда увидели обитателей леса. Люди серо-мышиного цвета. Все было на них мышино-серое: какие-то кацавейки, долгополые лохмотья, на ногах бесформенные опорки на босу ногу, на головах серо-мышиные ушанки с концами, которые разлетались и придавали лицу дикое выражение. В стороне торчал человек с ружьем, который был одет по-военному и явно принадлежал к «другой расе».
Мы еще не верили, что это конец нашей дороги. Бараки выглядели, как место привала, а не человеческое жилье. Новоприбывшие не знали, что на ночь нельзя оставлять хлеба на виду или даже в сумке. Ночью обрушились на них крысы, вылезли из всех щелей. Кто-то проснулся и увидел огромную крысу на своей груди. Он дико крикнул, как маленький: «Мама!» — и это привело к повальной истерии. Стрелки ВОХР’а сбежались со всего лагеря. Когда дежурный узнал, что поляки испугались крыс, он просто остолбенел от изумления. Он не мог этого понять. Стрелки хохотали. Дежурный успокаивал нас как детей. — Вы привыкнете! — сказал он. — Ведь это не опасно. Разве у вас в Польше не было крыс? И он был прав. Мы привыкли. Через 3 месяца я так привык к крысам, что они могли танцевать у меня на голове.
О начале войны Марголин вспоминал следующее:
Прошло 2 дня. На вечерней поверке 163-й начальник лагпункта Абраменко обратился к собранным бригадам зэ-ка с речью. Он объявил о начавшейся войне и сразу перешел к угрозам. — Мы знаем, о чем вы шепчетесь между собой! Вы ждете, чтобы разорвали на куски Советский Союз! Но раньше мы ваши тела разорвем на куски! Мы прольем море крови, но не выпустим власти из рук…
В советском лагере Марголин невольно оценил прелести дореволюционного строя:
На четвертом году заключения я раздобыл в лагере «Записки из мертвого дома» Достоевского и прочел их, сравнивая эволюцию каторги со времен Николая I. Сравнение это не в пользу Советской власти. Я читал отрывки из этой книги своим соседям зэ-ка: люди эти смеялись и… завидовали.
Отдельную радость автор испытал, став непригодным к труду:
Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («облегченный труд»), а проснулся инвалидом 2-й группы. Меня актировали. Невероятное, головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Лекпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки:
— Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?
Был ли я доволен? Я обезумел от счастья, я не знал, что со мной делается, это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка — больше, чем инвалидность 2-й группы. Актировать заключенного — значит официально подтвердить, что он не только непригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Слава Богу, я был инвалидом!
Учитывая практически полное отсутствие источников по теме на тот момент, книга Марголина довольно ценна. Он не вдавался в пространные политические рассуждения, а просто описывал лагерный быт: что такое карцер и рабгужсила, отличия между «урками» и политическими, привилегированное положение «урок» и его причины, описывал различные лагерные хитрости: как можно получить освобождение от работ на день по состоянию здоровья, как делать приписки в планах, кем выгоднее всего работать в лагере (врачом или завкухней).
В начале 50-х годов стало появляться немало свидетельств выбравшихся из сталинских лагерей иностранцев. В Лондоне вышла книга «Заговор молчания», написанная австро-польским коммунистом и физиком Александром Вайсбергом. Он приехал в СССР в начале 30-х годов как убежденный коммунист, но в годы Большого террора попал под руку как «шпион». Впрочем, в настоящих лагерях Вайсбергу не довелось побывать — в итоге его выдворили из СССР в Германию.
В ФРГ вышла книга «Украденная жизнь. Судьба политического эмигранта в Советском Союзе». Ее написала Сюзанна Леонгард — еще одна восторженная коммунистка, приехавшая строить государство рабочих и крестьян в СССР. В ранней молодости Леонгард примыкала к немецким большевикам-спартакистам. После прихода к власти Гитлера она уехала в Швецию, а оттуда в СССР, где ее почти сразу арестовали и на 12 лет упрятали в лагеря. Выехать из СССР ей помог сын — Вольфганг Леонгард. Искренний большевик Леонгард приехал из СССР в ГДР строить советское общество и даже критиковал советскую власть за нежелание внедрять в ГДР больше коммунизма, но позднее бежал в Югославию и ФРГ, где стал убежденным антисталинистом-титоистом и известным советологом. Сюзанна Леонгард тоже перебралась в ФРГ и тоже начала придерживаться левых титоистских взглядов (сам Тито спонсировал их партию).
Опубликовал свои воспоминания «Жизнь и смерть в СССР» и один из самых известных узников лагерей Валентин Гонсалес, известный также как El Campesino. В СССР его звали как «испанского Чапаева». Гонсалес воевал в испанской гражданской на стороне республиканцев. По профессии он был шахтер, и советская пропаганда рисовала El Campesino как местного Чапаева, посвящая этому «природному офицеру» немало газетных статей. El Campesino был настолько примечателен, что его упоминает в «По ком звонит колокол» сам Хемингуэй:
Валентин Гонсалес, прозванный El Campesino, то есть крестьянин, вовсе и не крестьянин, а бывший сержант Испанского иностранного легиона; он дезертировал и дрался на стороне Абд эль-Керима. Но и в этом ничего такого не было. Почему бы и нет? … Когда он увидел Campesino, его черную бороду, его толстые, как у негра, губы и лихорадочные, беспокойные глаза, он подумал, что такой может причинить не меньше хлопот, чем настоящий крестьянский вождь. В последнюю встречу ему даже показалось, что этот человек сам уверовал в то, что о нем говорили, и почувствовал себя крестьянином. Это был смельчак, отчаянная голова: трудно найти человека смелее. Но, господи, до чего же он много говорил! И в пылу разговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А последствия эти не раз уже бывали печальны.
После войны Гонсалес с группой испанских коммунистов получил в Советском Союзе политическое убежище. Но в сталинском СССР ему с самого начала не понравилось. Он больше тяготел к анархистам, вдобавок имел скверный характер и поругался со всеми бывшими соратниками по борьбе (Долорес Ибаррури обозвал шлюхой). К учебе он никаких талантов не имел, даже по-испански писал с трудом, а по-русски и двух слов связать не мог. Кроме того, его ужасали условия советского быта, особенно советские коммуналки. Он просто не понимал, как в них можно жить. Поняв, что в советском раю ему не очень нравится, Гонсалес попытался бежать из СССР в Иран, но был пойман и отправлен ненадолго в лагерь. В системе ГУЛАГа Гонсалес стал своеобразной живой легендой. О нем упоминает в своей книге и Марголин:
Этот испанский мужик, человек без образования, но с фанатической верой в революцию, пережил в СССР великое разочарование. В конце концов он потребовал, чтобы его выпустили в Европу. Вместо этого его отправили в тюрьму, в лагеря. Кампесино дважды бежал из СССР. Один раз ему удалось бежать из Баку в Тегеран, но НКВД привезло его оттуда обратно. Во второй раз он спасся от Сталина с невероятными приключениями.
Упоминал его и Солженицын, но вскользь. Лагерные легенды несколько преувеличивали подвиги Эль Кампесино и НКВД. На самом деле испанец действительно пытался бежать из СССР через Иран во время войны, но задержали его в Иране не НКВДшники, а англичане, которые и вернули беглеца в СССР, где он на три года попал в лагерь, потом был отправлен в ссылку в Ашхабад, откуда сбежал из СССР через Иран пользуясь неразберихой после землетрясения 1948 года. На этот раз его поймали американцы, но выдавать не стали, а вывезли во Францию. Там он выступал свидетелем на процессе Руссе о «клевете на советскую действительность», заявив в суде:
Я жалею и раскаиваюсь в том, что хотел навязать испанскому народу режим, похожий на тот, который существует в России. В Советском Союзе я пережил самую большую катастрофу моей жизни.
Любопытно, что Гонсалес так и не отказался от борьбы против Франко. Он начал организовывать вместе с басками теракты в Испании. Французы арестовали его по требованию Мадрида и следующие годы он просидел во французской тюрьме. Уже после смерти Франко, в 1978 году, Гонсалес все же вернулся в Испанию и заявил, что больше не участвует в политике и всецело поддерживает демократические перемены.
Разумеется, СССР отрицал все опубликованные в западные странах воспоминания. Левая интеллигенция Европы также отказывалась их признавать, называя клеветой. На официальном уровне существование бесчеловечной системы лагерей признали только после доклада Хрущева о культе личности. Воспоминания советских заключенных по высочайшему разрешению стали печататься и в СССР. Первым таким рассказом стало художественное произведение «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Он послал свою работу в журнал «Новый мир». Главред Твардовский (автор «Василия Тёркина») пришел в восторг, дал почитать текст всем видным советским писателям, всем очень понравилось. Показал цензурной комиссии: тем понравилось, но они попросили Солженицына несколько подкорректировать работу — критику советского строя заменить на критику сталинских преступлений.
Твардовский написал хвалебную рецензию на повесть и послал ее Хрущеву. Тому понравилось настолько, что рассказ заставили прочитать весь Президиум ЦК. Новый генсек как раз только недавно выступил с развенчанием культа личности и не всем в верхушке партии это нравилось.
«Один день Ивана Денисовича» был опубликован в 1962 году, Солженицын моментально стал всемирной звездой, а сам факт публикации не только шокировал советское общество, но и порвал шаблон западным левым, которые ранее глумились над бывшими узниками лагерей, обзывая их лжецами.
По горячим следам в СССР опубликовали две книги воспоминаний заслуженных деятелей. В 1965 году вышла книга «Годы и войны», автором которой был генерал Горбатов, участник ВОВ, комендант Берлина и командующий ВДВ — до войны он несколько лет провел в лагерях.
На следующий год появилась книга журналиста и писателя Дьякова «Повесть о пережитом». Дьяков, правда, сидел не до войны, а после.
После этого окно возможностей закрылось, следующие книги про лагеря публиковались уже в западных странах. Например, «Колымские рассказы» Шаламова печатались только за границей, а в СССР появились только в годы Перестройки, уже после смерти автора.
В дальнейшем на Западе выходили в основном мемуары о новой советской лагерной системе, опробованной на своем опыте диссидентами. Отдельно стоит отметить воспоминания американских узников лагерей. Американцы, в отличие от европейских коммунистов, в ГУЛАГ попадали редко — на 1945 год в советских лагерях сидели всего 5 американских граждан.
Сразу три книги о пребывании в воркутинских лагерях написал американец Джон Нобл. Ему с отцом принадлежала немецкая фабрика по производству фотоаппаратов. Во время войны семья жила в Германии, их завод попал в советскую зону оккупации. Разумеется, фабрику национализировали, а Ноблов арестовали и держали в немецких лагерях. Отца отпустили в начале 50-х, а сына приговорили к 15 годам и перевели из немецкого лагеря в Воркуту, где он просидел пять лет, пока не попал под амнистию. Нобл написал о советских лагерях три книги: «Я нашел Бога в Советской России», «Я был рабом в России» и «Изгнанный и исчезнувший».
В отличие от Нобла, который после амнистии сразу уехал, двум другим американцам не удалось покинуть СССР так быстро. Александр Долган, чей отец приехал в СССР в годы индустриализации и остался работать по контракту, был арестован уже после войны. Накануне ареста Долган работал шофером в посольстве США. Он получил 25 лет, но вышел по амнистии через 7. Условием амнистии был отказ от контактов с американцами и запрет на выезд из страны. Долган работал переводчиком в Москве, женился и даже общался с Солженицыным. Вернуться в США он смог только в 1970 году и опубликовал там книгу «Американец в ГУЛАГе».
Томас Сговио тоже надолго застрял в СССР. Он приехал в страну юношей, вместе с отцом, левым активистом, которого депортировали из США. Сговио с сыном попросили убежище в СССР в 1935 году и даже отказались от американского гражданства, но вскоре поняли, что государство рабочих не очень им нравится. Томас попытался восстановить американский паспорт, но выбрал крайне неудачное время — самый разгар Большого террора. Ему дали пять лет и отправили на Колыму. В 1948 году уже освободившегося американца отправили на спецпоселение в Красноярский край, но с приходом Хрущева освободили от ссылки. Вернуться в США Сговио сумел только в 1960 году. Там он написал книгу «Дорогая Америка! Почему я стал противником коммунизма», описав свой лагерный опыт в СССР.
Еще одним известным выжившим был Виктор Герман. Его родители, левые активисты с завода Форда, приехали строить ГАЗ. Герман, ставший советским гражданином, получил в 1938 году 10 лет и отсидел до самого конца. Позднее он писал пособия по изучению английского языка, тренировал молдавских боксеров и сумел вернуться в США только в 1976 году.
Как мы видим, в СССР сталинских времен иностранцы сидели в наравне со всеми. Их не изолировали от остальных заключенных и не строили для них отдельных лагерей. Впрочем, в общей массе заключенных они встречались крайне редко. Вместе с тем сталинское правосудие относилось к ним чуть гуманнее — как правило, иностранные граждане получали 5-10 лет, а советские от 10 до 25. С другой стороны, некоторые из иностранцев вообще случайно попали в СССР — о советских порядках и нравах они не имели никакого представления, и заключение наверняка переносили куда тяжелее, чем привыкшие к бесправию советские граждане.
Любопытно, что в НКВД существовало негласное разделение на «своих» и «чужих» иностранцев. «Своими» считались лица представленных в СССР национальностей, пусть и с иностранным гражданством. Скажем, этнического русского или еврея с американским паспортом считали «своим». А вот американец британского или немецкого происхождения с американским паспортом попадал в категорию «чужих». Со «своими» обращались примерно как с советскими гражданами, к «чужим» относились чуть лучше, со скидкой на непонимание реалий. Поначалу арест иностранца считался в СССР чрезвычайным событием. Санкцию на арест и даже простой обыск требовалось получать непосредственно у народного комиссара внутренних дел или его заместителя. Но с началом Большого террора систему перестали беспокоить такие условности. Особое внимание НКВД привлекали граждане Германии, Польши и Японии (наиболее вероятных военных противников). Из 4015 граждан Германии в годы Большого террора арестовали около 800 человек. Впрочем, подавляющее большинство арестованных не попали в лагеря — из сразу выслали из страны. Гораздо меньше повезло гражданам соответствующих национальностей, имевшим советский паспорт. Они в большинстве своем отправлялись на спецпоселение или в за решетку.
Количество иностранных заключенных ГУЛАГа хорошо известно. Их число, за исключением раннего послевоенного периода, оставалось небольшим. Павел Полян приводит следующие цифры:
На 1939 год в советских лагерях находилось 5487 иностранных граждан. Подавляющее большинство составляли китайские подданные — 1794 человека. Большинство из них — не китайцы, а этнические русские с КВЖД и из Харбина. После Гражданской войны многие русские беженцы укрылись в Харбине, до которого руки у большевиков не дошли. Но в дальнейшем СССР и Китай заключили соглашение, по которому работать на станции могли только советские или китайские граждане. Русской диаспоре Харбина пришлось выбирать между гражданствами: часть взяла советское, другая часть китайское. После продажи КВЖД Маньчжоу-Го многие русские уехали в СССР, где почти сразу попали в лагеря. Оставшиеся в Харбине эмигранты попали в советские лагеря уже после войны, когда Харбин оккупировали советские войска.
На втором месте граждане Ирана — 711 заключенных. Это тоже этнические русские, которые бежали в Иран после Гражданской войны, часть из них затем вернулась.
Третье место по численности занимают греки — одна из крупнейших советских иностранных диаспор.
Стоит отметить, что страны, находившиеся в отдалении от СССР и не граничившие с ним, практически не отметились в ГУЛАге. По состоянию на 1939 год насчитывалось 3 заключенных американца, 4 француза, 91 немец (в основном коммунисты), 1 швейцарец, 2 бельгийца.
На 1945 год численность иностранных граждан в ГУЛАГе выросла почти вдвое — до 9151 человека. Лидировали теперь немцы (4587 заключенных), затем шли румыны (1485), следом китайцы (857). Причины такой перемены очевидны.
Пик численности иностранцев в советских лагерях пришелся на 1950 год — их набралось 23910 человек. Безоговорочными лидерами снова были немцы — 11825 человек, затем венгры — 2465 человека, японцы — 2384 человека, поляки — 1235 человек, румыны — 1126 человек, китайцы — 1135 человек. Увеличение численности немцев, румын и японцев с венграми по итогам войны понятно. В трудовые лагеря отправлялись военнопленные, которых советское государство сочло социально опасными и контрреволюционными элементами или посчитало виновными в каких-то преступлениях. Рост численности китайских граждан объясняется оккупацией Харбина, откуда в лагеря отправили оставшихся русских. После 1945 года в ГУЛАГе появляются и югославы. На самом деле это русские эмигранты, бежавшие после Гражданской войны (3740 человек).
Число американских граждан в лагерях не превышало 8 человек, один английский подданный сидел в советском лагере в 1945 году, в 1950 не было ни одного, еще один появился в 1951 году.
Как относились к попаданию своих граждан в лагеря иностранные государства? На самом деле, довольно спокойно. До войны в советские лагеря, как правило, попадали иностранные коммунисты, либо депортированные из своих стран, либо уехавшие добровольно — правительства с удовольствием избавлялись чужими руками от беспокойных активистов и не торопились забрасывать советские посольства нотами протеста.
После войны за колючую проволоку в основном попадали военнослужащие проигравших держав, находившихся в советской зоне влияния — эти тоже не возражали против того, чтобы «буржуи и контрреволюционеры» или «фашисты» немного посидели в советских лагерях.
Положение иностранцев в ГУЛАГе было двойственным. С одной стороны, части из них, далекой от политики, пришлось приспосабливаться к чудовищной и абсурдной реальности. С другой стороны, те же западные коммунисты, приехавшие по своему желанию в СССР и попавшие в лагеря, хотя бы видели другую жизнь. Они понимали, что советское государство устроено как-то не так, и, вернувшись домой, поголовно становились антикоммунистами. Для них это был случайный, но временный кошмар. Американцы Нобл или Сговио мечтали выйти и вернуться в Америку. Да, у них украли часть жизни, но это можно компенсировать хотя бы написанием книги — она принесет деньги и моральное удовлетворение. Еврей Марголис мог перед отбоем представлять, как едет в Палестину, где каждый день солнце, вдоволь еды, нет лагерей, и СССР можно забыть, как страшный сон.
А о чем мог мечтать русский крестьянин Иванов? О том, как отсидев 10-15 лет в нечеловеческих условиях вернется домой, в родной колхоз? Жена развелась с ним, как с врагом народа, родственники умерли. Чем он мог утешить себя, работой за трудодни? Нельзя было даже пожаловаться окружающим на жестокую несправедливость судьбы — это клевета на социалистический строй, билет обратно в родной лагерь. Хорошо если он с самого начала был разочарован в советской власти и в лагере пытался просто выжить. А ведь попадались и люди, которые и в лагерях оставались пламенными коммунистами, думая, что произошла какая-то ошибка или недоразумение, и что если работать хорошо, их заметят, оценят и отпустят на волю. Такие «стахановцы» сгорали за несколько месяцев. Весь ужас положения советских заключенных смог оценить Марголин. Он не знал советских нравов, не был коммунистом, не понимал советской действительности и по совести должен был быть обижен на весь мир за такую несправедливость. Но находясь в лагере, он неожиданно понял, как сильно ему повезло:
«Вам дали детские сроки, — говорили русские заключенные, — три и пять лет — это пустяк. Нам по 10 дают. А уж раз дали — не сомневайтесь! Придется вам отсидеть полный срок — „от звонка до звонка“. Выбросьте из головы вашу Варшаву. Не видать вам Варшавы больше, как ушей своих». Нас оттолкнуло открытое злорадство русских лагерников и десятников по поводу наших приговоров. Эти люди не скрывали своего удовольствия и с садистическим наслаждением повторяли нам сто раз на день, что не видать нам Польши, как своих ушей. В первое время нам казалось, что все они — ненормальны, что несчастье вытравило из них способность сочувствовать чужому горю и превратило их в существа полные сатанинской злости и порочности. Прошли месяцы, пока мы научились распознавать среди них друзей и хороших людей. И еще больше времени, пока мы — или те из нас, кто задумывался над окружающим — поняли всю глубину их несчастья, беспримерного в мировой истории.
Слово «ГУЛАГ», один из самых известных «брендов» прошлого века, никому ничего не говорило в те годы, когда лагеря еще работали. Великие злодеяния сталинской системы остались незамеченными современниками при ее жизни. Главное Управление прославилось уже после формального упразднения сталинских лагерей, во второй половине ХХ века. Первая информация о советском кошмаре стала просачиваться наружу только в начале 50-х годов, когда из тюрем начали выходить выжившие в них иностранцы, случайно угодившие под сталинский каток. Они начали говорить; советские заключенные не могли сделать и этого.
Лагерная система была одним из столпов раннего большевистского режима. Разумеется, тюрьмы существуют в любом государстве, однако большевики с самого начала решили пойти гораздо дальше и органично вплели в свою экономику труд заключенных, усилиями которых осваивались отдаленные районы страны и велись стройки коммунизма.
Недостатка в обитателях лагерей никогда не было, поскольку большевики декларировали диктатуру пролетариата и всех активно несогласных с ней стали отправлять в лагеря. Дальше дело пошло так хорошо, что за колючую проволоку начали уезжать даже преданные сторонники коммунистических идей. Лагеря росли и укрупнялись: например, знаменитый Соловецкий лагерь в начале 20-х насчитывал 2,5 тысячи заключенных, а к 1931 году уже 71 тысячу. И это при том, что Большой террор еще не начался.
Традиционно считается, что ГУЛАГ был бедой только советских людей. Действительно, подавляющее большинство заключенных составляли обитатели СССР. Но иногда в советские лагеря попадали и иностранные граждане. Их было не так много, но для них опыт ГУЛАГа стал столь шокирующим, что выжив и освободившись, они писали об этом целые книги, из которых западное общество и узнало о сталинской системе. Узнало и поначалу не поверило.
Долгое время о ГУЛАГе ничего не знали за границей. Редкие статьи (обычно в антикоммунистических изданиях), построенные в основном на слухах, либо никто не замечал, либо их в пух и прах громила левая пресса. Интеллектуалы отказывались верить, что в государстве победившей пролетарской революции могут твориться такие ужасы.
ГУЛАГ как система появился в 1930 году, а первая книга, описывающая непосредственно гулаговские будни, вышла в Болгарии в 1938-м. Ее автор — Борис Солоневич, брат известного Ивана Солоневича. «День врача в концлагере» вскоре переиздали небольшим тиражом в Германии и Франции. В том же году в Германии вышла книга немца, побывавшего в советском заключении. Карл Альбрехт, ветеран Первой мировой войны, после ее бесславного окончания увлекся коммунистическими идеями и по протекции коминтерновца и видного немецкого коммуниста Вилли Мюнценберга в 1924 году перебрался в СССР, где довольно быстро дорос до заместителя наркома лесного хозяйства (!).
Однако к 1932 году в стране Cоветов подули совсем другие ветры и товарища Альбрехта арестовали как немецкого шпиона. В ряде источников даже указано, что его приговорили к смертной казни. Но тогда СССР еще не пустился во все тяжкие и иностранных граждан пока побаивались трогать «всерьез». Поэтому спустя полтора года Альбрехта выслали в Германию, где к власти как раз пришли нацисты. Альбрехт попал теперь уже в гестапо — по подозрению в шпионаже в пользу коммунистов. Однако вскоре его отпустили.
Год в советской тюрьме произвел на Альбрехта такое впечатление, что он сразу же разочаровался в коммунизме и стал преданным национал-социалистом. Кроме того, его русскую жену не выпустили из СССР вместе с ним. В 1938 году в Германии вышла книга «Преданный социализм». Ее содержание в основном сводилось к тому, как все плохо в СССР: диктатура, бесправие, голод, плохая организация. Тюремному опыту уделялась только небольшая часть книги, тем более что и сидел Альбрехт по советским меркам совсем чуть-чуть.
После заключения пакта Молотова-Риббентропа в Германии резко снизили накал антисоветской пропаганды, однако с началом войны с СССР про «Преданный социализм» вспомнили и переиздали достаточно крупным тиражом.
Однако это были единичные всплески. Европа узнала о советских порядках только после шумных судебных процессов — «дела Кравченко» в 1949 году и «дела Руссе», последовавшего вскоре за ним. В 1946 году появились сразу две книги: «Я выбрал свободу» Кравченко и «Концентрационный мир» Руссе. Кравченко — советский невозвращенец, он написал книгу о жизни в СССР, в основном про ужасы коллективизации, которые видел сам. Книга вышла во Франции 500 тысячным тиражом и вполне могла остаться незамеченной, если бы медвежью услугу не оказали французские коммунисты. Они через свои СМИ ополчились на Кравченко, начав кампанию против «грязного клеветника и лжеца». Тот в ответ подал в суд. В 1949 году во Франции начался открытый процесс, который в итоге нанес куда больше репутационных и имиджевых потерь СССР, чем сама книга. Забавно, что в защиту советской стороны на процессе выступал настоятель Кентерберийского собора Хьюитт (за что получил Сталинскую премию). Чуть ли не под конвоем из СССР доставили несколько свидетелей: доказать, что вся информация Кравченко — ложь.
Процесс любопытен тем, что в поддержку Кравченко впервые выступали иностранцы, побывавшие в системе ГУЛАГа. Со стороны обвинения на процессе выступила немецкая коммунистка Маргарет Бубер-Нойман, вдова Гейнца Ноймана. Нойман, видный немецкий коммунист и деятель Коминтерна, не пережил 1937 год. Его жену арестовали и отправили на спецпоселение, а в 1940 году выдали гестапо — она просидела в Равенсбрюке до самого конца войны. Позже Маргарет тоже написала книгу воспоминаний под названием «Пленница Сталина и Гитлера», окончательно разочаровалась в коммунизме и перешла к христианским демократам.
С делом Руссе случилась похожая история. Давид Руссе был французским журналистом-троцкистом. Именно он популяризовал термин «ГУЛАГ» в западной прессе. Впрочем, Руссе не ограничивался только советскими лагерями, а выступал против подобных лагерных систем повсюду. Он организовал «Интернациональную комиссию по борьбе с концентрационными лагерями» и даже достучался до ООН, где ему дали выступить.
Вскоре стали появляться первые мемуары «наполовину иностранцев». После распада СССР многие подданные Российской Империи оказались в независимой Польше и других странах и стали их гражданами. В СССР все они считались «своими иностранцами» и «обслуживали» их как своих, если СССР вдруг приходил на эти территории. К примеру, немало белых эмигрантов из Восточной Европы после войны захватил СМЕРШ — их отправляли в советские лагеря. Первые мемуары о ГУЛАГе писали как раз эти люди.
В 1949 году в Париже появилась книга Юзефа Чапского «На бесчеловечной земле». Чапский родился в Российской Империи, его дядя был губернатором Минска, сам он учился в Петербурге, воевал в Императорской армии в годы Первой мировой, дружил с Зинаидой Гиппиус и, к слову, приходился двоюродным братом советскому наркому иностранных дел Чичерину. После революции он перебрался в Польшу и получил польское гражданство. С началом Второй мировой войны Чапского призвали на фронт, и после раздела Польши он оказался в советском плену. Юзеф два года провел в лагерях для военнопленных — ему крупно повезло, что его не расстреляли. Затем Чапского и других уцелевших офицеров выпустили, разрешив присоединиться к армии Андерса. Юзеф активно занимался выяснением судьбы пропавших польских офицеров. Формально его воспоминания тоже нельзя отнести к числу работ о ГУЛАГе, как и мемуары Бубер-Нойман, поскольку Чапский сидел в лагере для пленных офицеров, а не в классическом трудовом лагере, а Бубер-Нойман жила на спецпоселении.
Первое полноценное воспоминание о пребывании в системе ГУЛАГа оставила голландская (по другим данным швейцарская, по третьим — бельгийская, по четвертым — немецкая) коммунистка Элинор Липпер, в 1950 году опубликовавшая мемуары «Eleven years in Soviet prison camps». Книга вышла в США и привлекла некоторое внимание. Однако знаменитой Липпер так и не стала — ее биографию невозможно отыскать ни на русском, ни на английском языке.
Следом опубликовал мемуары «свой» иностранец Юлий Марголин. Он родился в Российской Империи, после революции перебрался в Германию, потом в Польшу и Палестину. На свою беду прямо накануне войны Марголин приехал в Польшу навестить родственников — и тут Пинск присоединили к СССР. Поскольку Марголин в прошлом имел русское подданство, с ним и обошлись как со своим — отправили на 5 лет в лагеря как социально опасного. В 1945 году Марголин освободился и перебрался в социалистическую Польшу, а оттуда сумел выехать в Палестину. Он оставил мемуары «Путешествие в страну зе-ка», впечатления далекого от советской жизни иностранца, на собственном опыте соприкоснувшегося с лагерной системой:
На всем лежала тень какой-то пустынной и мрачной угрюмости. Глухая, заброшенная сторона. На поворотах наш маленький паровозик оглушительно свистел, и на деревянных щитах у полотна мы читали непонятную для нас надпись: «Закрой поддувало».
Мы были «иностранцы», которых сразу можно было узнать по желтым и зеленым чемоданам, по пиджакам и пальто, по верхним рубашкам всех цветов, по европейской обуви и по разнообразию костюмов. Как мы были богаты, как мы были пестры и неодинаковы — это мы поняли только когда увидели обитателей леса. Люди серо-мышиного цвета. Все было на них мышино-серое: какие-то кацавейки, долгополые лохмотья, на ногах бесформенные опорки на босу ногу, на головах серо-мышиные ушанки с концами, которые разлетались и придавали лицу дикое выражение. В стороне торчал человек с ружьем, который был одет по-военному и явно принадлежал к «другой расе».
Мы еще не верили, что это конец нашей дороги. Бараки выглядели, как место привала, а не человеческое жилье. Новоприбывшие не знали, что на ночь нельзя оставлять хлеба на виду или даже в сумке. Ночью обрушились на них крысы, вылезли из всех щелей. Кто-то проснулся и увидел огромную крысу на своей груди. Он дико крикнул, как маленький: «Мама!» — и это привело к повальной истерии. Стрелки ВОХР’а сбежались со всего лагеря. Когда дежурный узнал, что поляки испугались крыс, он просто остолбенел от изумления. Он не мог этого понять. Стрелки хохотали. Дежурный успокаивал нас как детей. — Вы привыкнете! — сказал он. — Ведь это не опасно. Разве у вас в Польше не было крыс? И он был прав. Мы привыкли. Через 3 месяца я так привык к крысам, что они могли танцевать у меня на голове.
О начале войны Марголин вспоминал следующее:
Прошло 2 дня. На вечерней поверке 163-й начальник лагпункта Абраменко обратился к собранным бригадам зэ-ка с речью. Он объявил о начавшейся войне и сразу перешел к угрозам. — Мы знаем, о чем вы шепчетесь между собой! Вы ждете, чтобы разорвали на куски Советский Союз! Но раньше мы ваши тела разорвем на куски! Мы прольем море крови, но не выпустим власти из рук…
В советском лагере Марголин невольно оценил прелести дореволюционного строя:
На четвертом году заключения я раздобыл в лагере «Записки из мертвого дома» Достоевского и прочел их, сравнивая эволюцию каторги со времен Николая I. Сравнение это не в пользу Советской власти. Я читал отрывки из этой книги своим соседям зэ-ка: люди эти смеялись и… завидовали.
Отдельную радость автор испытал, став непригодным к труду:
Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («облегченный труд»), а проснулся инвалидом 2-й группы. Меня актировали. Невероятное, головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Лекпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки:
— Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?
Был ли я доволен? Я обезумел от счастья, я не знал, что со мной делается, это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка — больше, чем инвалидность 2-й группы. Актировать заключенного — значит официально подтвердить, что он не только непригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Слава Богу, я был инвалидом!
Учитывая практически полное отсутствие источников по теме на тот момент, книга Марголина довольно ценна. Он не вдавался в пространные политические рассуждения, а просто описывал лагерный быт: что такое карцер и рабгужсила, отличия между «урками» и политическими, привилегированное положение «урок» и его причины, описывал различные лагерные хитрости: как можно получить освобождение от работ на день по состоянию здоровья, как делать приписки в планах, кем выгоднее всего работать в лагере (врачом или завкухней).
В начале 50-х годов стало появляться немало свидетельств выбравшихся из сталинских лагерей иностранцев. В Лондоне вышла книга «Заговор молчания», написанная австро-польским коммунистом и физиком Александром Вайсбергом. Он приехал в СССР в начале 30-х годов как убежденный коммунист, но в годы Большого террора попал под руку как «шпион». Впрочем, в настоящих лагерях Вайсбергу не довелось побывать — в итоге его выдворили из СССР в Германию.
В ФРГ вышла книга «Украденная жизнь. Судьба политического эмигранта в Советском Союзе». Ее написала Сюзанна Леонгард — еще одна восторженная коммунистка, приехавшая строить государство рабочих и крестьян в СССР. В ранней молодости Леонгард примыкала к немецким большевикам-спартакистам. После прихода к власти Гитлера она уехала в Швецию, а оттуда в СССР, где ее почти сразу арестовали и на 12 лет упрятали в лагеря. Выехать из СССР ей помог сын — Вольфганг Леонгард. Искренний большевик Леонгард приехал из СССР в ГДР строить советское общество и даже критиковал советскую власть за нежелание внедрять в ГДР больше коммунизма, но позднее бежал в Югославию и ФРГ, где стал убежденным антисталинистом-титоистом и известным советологом. Сюзанна Леонгард тоже перебралась в ФРГ и тоже начала придерживаться левых титоистских взглядов (сам Тито спонсировал их партию).
Опубликовал свои воспоминания «Жизнь и смерть в СССР» и один из самых известных узников лагерей Валентин Гонсалес, известный также как El Campesino. В СССР его звали как «испанского Чапаева». Гонсалес воевал в испанской гражданской на стороне республиканцев. По профессии он был шахтер, и советская пропаганда рисовала El Campesino как местного Чапаева, посвящая этому «природному офицеру» немало газетных статей. El Campesino был настолько примечателен, что его упоминает в «По ком звонит колокол» сам Хемингуэй:
Валентин Гонсалес, прозванный El Campesino, то есть крестьянин, вовсе и не крестьянин, а бывший сержант Испанского иностранного легиона; он дезертировал и дрался на стороне Абд эль-Керима. Но и в этом ничего такого не было. Почему бы и нет? … Когда он увидел Campesino, его черную бороду, его толстые, как у негра, губы и лихорадочные, беспокойные глаза, он подумал, что такой может причинить не меньше хлопот, чем настоящий крестьянский вождь. В последнюю встречу ему даже показалось, что этот человек сам уверовал в то, что о нем говорили, и почувствовал себя крестьянином. Это был смельчак, отчаянная голова: трудно найти человека смелее. Но, господи, до чего же он много говорил! И в пылу разговора мог сказать что угодно, не задумываясь о последствиях своей неосмотрительности. А последствия эти не раз уже бывали печальны.
После войны Гонсалес с группой испанских коммунистов получил в Советском Союзе политическое убежище. Но в сталинском СССР ему с самого начала не понравилось. Он больше тяготел к анархистам, вдобавок имел скверный характер и поругался со всеми бывшими соратниками по борьбе (Долорес Ибаррури обозвал шлюхой). К учебе он никаких талантов не имел, даже по-испански писал с трудом, а по-русски и двух слов связать не мог. Кроме того, его ужасали условия советского быта, особенно советские коммуналки. Он просто не понимал, как в них можно жить. Поняв, что в советском раю ему не очень нравится, Гонсалес попытался бежать из СССР в Иран, но был пойман и отправлен ненадолго в лагерь. В системе ГУЛАГа Гонсалес стал своеобразной живой легендой. О нем упоминает в своей книге и Марголин:
Этот испанский мужик, человек без образования, но с фанатической верой в революцию, пережил в СССР великое разочарование. В конце концов он потребовал, чтобы его выпустили в Европу. Вместо этого его отправили в тюрьму, в лагеря. Кампесино дважды бежал из СССР. Один раз ему удалось бежать из Баку в Тегеран, но НКВД привезло его оттуда обратно. Во второй раз он спасся от Сталина с невероятными приключениями.
Упоминал его и Солженицын, но вскользь. Лагерные легенды несколько преувеличивали подвиги Эль Кампесино и НКВД. На самом деле испанец действительно пытался бежать из СССР через Иран во время войны, но задержали его в Иране не НКВДшники, а англичане, которые и вернули беглеца в СССР, где он на три года попал в лагерь, потом был отправлен в ссылку в Ашхабад, откуда сбежал из СССР через Иран пользуясь неразберихой после землетрясения 1948 года. На этот раз его поймали американцы, но выдавать не стали, а вывезли во Францию. Там он выступал свидетелем на процессе Руссе о «клевете на советскую действительность», заявив в суде:
Я жалею и раскаиваюсь в том, что хотел навязать испанскому народу режим, похожий на тот, который существует в России. В Советском Союзе я пережил самую большую катастрофу моей жизни.
Любопытно, что Гонсалес так и не отказался от борьбы против Франко. Он начал организовывать вместе с басками теракты в Испании. Французы арестовали его по требованию Мадрида и следующие годы он просидел во французской тюрьме. Уже после смерти Франко, в 1978 году, Гонсалес все же вернулся в Испанию и заявил, что больше не участвует в политике и всецело поддерживает демократические перемены.
Разумеется, СССР отрицал все опубликованные в западные странах воспоминания. Левая интеллигенция Европы также отказывалась их признавать, называя клеветой. На официальном уровне существование бесчеловечной системы лагерей признали только после доклада Хрущева о культе личности. Воспоминания советских заключенных по высочайшему разрешению стали печататься и в СССР. Первым таким рассказом стало художественное произведение «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Он послал свою работу в журнал «Новый мир». Главред Твардовский (автор «Василия Тёркина») пришел в восторг, дал почитать текст всем видным советским писателям, всем очень понравилось. Показал цензурной комиссии: тем понравилось, но они попросили Солженицына несколько подкорректировать работу — критику советского строя заменить на критику сталинских преступлений.
Твардовский написал хвалебную рецензию на повесть и послал ее Хрущеву. Тому понравилось настолько, что рассказ заставили прочитать весь Президиум ЦК. Новый генсек как раз только недавно выступил с развенчанием культа личности и не всем в верхушке партии это нравилось.
«Один день Ивана Денисовича» был опубликован в 1962 году, Солженицын моментально стал всемирной звездой, а сам факт публикации не только шокировал советское общество, но и порвал шаблон западным левым, которые ранее глумились над бывшими узниками лагерей, обзывая их лжецами.
По горячим следам в СССР опубликовали две книги воспоминаний заслуженных деятелей. В 1965 году вышла книга «Годы и войны», автором которой был генерал Горбатов, участник ВОВ, комендант Берлина и командующий ВДВ — до войны он несколько лет провел в лагерях.
На следующий год появилась книга журналиста и писателя Дьякова «Повесть о пережитом». Дьяков, правда, сидел не до войны, а после.
После этого окно возможностей закрылось, следующие книги про лагеря публиковались уже в западных странах. Например, «Колымские рассказы» Шаламова печатались только за границей, а в СССР появились только в годы Перестройки, уже после смерти автора.
В дальнейшем на Западе выходили в основном мемуары о новой советской лагерной системе, опробованной на своем опыте диссидентами. Отдельно стоит отметить воспоминания американских узников лагерей. Американцы, в отличие от европейских коммунистов, в ГУЛАГ попадали редко — на 1945 год в советских лагерях сидели всего 5 американских граждан.
Сразу три книги о пребывании в воркутинских лагерях написал американец Джон Нобл. Ему с отцом принадлежала немецкая фабрика по производству фотоаппаратов. Во время войны семья жила в Германии, их завод попал в советскую зону оккупации. Разумеется, фабрику национализировали, а Ноблов арестовали и держали в немецких лагерях. Отца отпустили в начале 50-х, а сына приговорили к 15 годам и перевели из немецкого лагеря в Воркуту, где он просидел пять лет, пока не попал под амнистию. Нобл написал о советских лагерях три книги: «Я нашел Бога в Советской России», «Я был рабом в России» и «Изгнанный и исчезнувший».
В отличие от Нобла, который после амнистии сразу уехал, двум другим американцам не удалось покинуть СССР так быстро. Александр Долган, чей отец приехал в СССР в годы индустриализации и остался работать по контракту, был арестован уже после войны. Накануне ареста Долган работал шофером в посольстве США. Он получил 25 лет, но вышел по амнистии через 7. Условием амнистии был отказ от контактов с американцами и запрет на выезд из страны. Долган работал переводчиком в Москве, женился и даже общался с Солженицыным. Вернуться в США он смог только в 1970 году и опубликовал там книгу «Американец в ГУЛАГе».
Томас Сговио тоже надолго застрял в СССР. Он приехал в страну юношей, вместе с отцом, левым активистом, которого депортировали из США. Сговио с сыном попросили убежище в СССР в 1935 году и даже отказались от американского гражданства, но вскоре поняли, что государство рабочих не очень им нравится. Томас попытался восстановить американский паспорт, но выбрал крайне неудачное время — самый разгар Большого террора. Ему дали пять лет и отправили на Колыму. В 1948 году уже освободившегося американца отправили на спецпоселение в Красноярский край, но с приходом Хрущева освободили от ссылки. Вернуться в США Сговио сумел только в 1960 году. Там он написал книгу «Дорогая Америка! Почему я стал противником коммунизма», описав свой лагерный опыт в СССР.
Еще одним известным выжившим был Виктор Герман. Его родители, левые активисты с завода Форда, приехали строить ГАЗ. Герман, ставший советским гражданином, получил в 1938 году 10 лет и отсидел до самого конца. Позднее он писал пособия по изучению английского языка, тренировал молдавских боксеров и сумел вернуться в США только в 1976 году.
Как мы видим, в СССР сталинских времен иностранцы сидели в наравне со всеми. Их не изолировали от остальных заключенных и не строили для них отдельных лагерей. Впрочем, в общей массе заключенных они встречались крайне редко. Вместе с тем сталинское правосудие относилось к ним чуть гуманнее — как правило, иностранные граждане получали 5-10 лет, а советские от 10 до 25. С другой стороны, некоторые из иностранцев вообще случайно попали в СССР — о советских порядках и нравах они не имели никакого представления, и заключение наверняка переносили куда тяжелее, чем привыкшие к бесправию советские граждане.
Любопытно, что в НКВД существовало негласное разделение на «своих» и «чужих» иностранцев. «Своими» считались лица представленных в СССР национальностей, пусть и с иностранным гражданством. Скажем, этнического русского или еврея с американским паспортом считали «своим». А вот американец британского или немецкого происхождения с американским паспортом попадал в категорию «чужих». Со «своими» обращались примерно как с советскими гражданами, к «чужим» относились чуть лучше, со скидкой на непонимание реалий. Поначалу арест иностранца считался в СССР чрезвычайным событием. Санкцию на арест и даже простой обыск требовалось получать непосредственно у народного комиссара внутренних дел или его заместителя. Но с началом Большого террора систему перестали беспокоить такие условности. Особое внимание НКВД привлекали граждане Германии, Польши и Японии (наиболее вероятных военных противников). Из 4015 граждан Германии в годы Большого террора арестовали около 800 человек. Впрочем, подавляющее большинство арестованных не попали в лагеря — из сразу выслали из страны. Гораздо меньше повезло гражданам соответствующих национальностей, имевшим советский паспорт. Они в большинстве своем отправлялись на спецпоселение или в за решетку.
Количество иностранных заключенных ГУЛАГа хорошо известно. Их число, за исключением раннего послевоенного периода, оставалось небольшим. Павел Полян приводит следующие цифры:
На 1939 год в советских лагерях находилось 5487 иностранных граждан. Подавляющее большинство составляли китайские подданные — 1794 человека. Большинство из них — не китайцы, а этнические русские с КВЖД и из Харбина. После Гражданской войны многие русские беженцы укрылись в Харбине, до которого руки у большевиков не дошли. Но в дальнейшем СССР и Китай заключили соглашение, по которому работать на станции могли только советские или китайские граждане. Русской диаспоре Харбина пришлось выбирать между гражданствами: часть взяла советское, другая часть китайское. После продажи КВЖД Маньчжоу-Го многие русские уехали в СССР, где почти сразу попали в лагеря. Оставшиеся в Харбине эмигранты попали в советские лагеря уже после войны, когда Харбин оккупировали советские войска.
На втором месте граждане Ирана — 711 заключенных. Это тоже этнические русские, которые бежали в Иран после Гражданской войны, часть из них затем вернулась.
Третье место по численности занимают греки — одна из крупнейших советских иностранных диаспор.
Стоит отметить, что страны, находившиеся в отдалении от СССР и не граничившие с ним, практически не отметились в ГУЛАге. По состоянию на 1939 год насчитывалось 3 заключенных американца, 4 француза, 91 немец (в основном коммунисты), 1 швейцарец, 2 бельгийца.
На 1945 год численность иностранных граждан в ГУЛАГе выросла почти вдвое — до 9151 человека. Лидировали теперь немцы (4587 заключенных), затем шли румыны (1485), следом китайцы (857). Причины такой перемены очевидны.
Пик численности иностранцев в советских лагерях пришелся на 1950 год — их набралось 23910 человек. Безоговорочными лидерами снова были немцы — 11825 человек, затем венгры — 2465 человека, японцы — 2384 человека, поляки — 1235 человек, румыны — 1126 человек, китайцы — 1135 человек. Увеличение численности немцев, румын и японцев с венграми по итогам войны понятно. В трудовые лагеря отправлялись военнопленные, которых советское государство сочло социально опасными и контрреволюционными элементами или посчитало виновными в каких-то преступлениях. Рост численности китайских граждан объясняется оккупацией Харбина, откуда в лагеря отправили оставшихся русских. После 1945 года в ГУЛАГе появляются и югославы. На самом деле это русские эмигранты, бежавшие после Гражданской войны (3740 человек).
Число американских граждан в лагерях не превышало 8 человек, один английский подданный сидел в советском лагере в 1945 году, в 1950 не было ни одного, еще один появился в 1951 году.
Как относились к попаданию своих граждан в лагеря иностранные государства? На самом деле, довольно спокойно. До войны в советские лагеря, как правило, попадали иностранные коммунисты, либо депортированные из своих стран, либо уехавшие добровольно — правительства с удовольствием избавлялись чужими руками от беспокойных активистов и не торопились забрасывать советские посольства нотами протеста.
После войны за колючую проволоку в основном попадали военнослужащие проигравших держав, находившихся в советской зоне влияния — эти тоже не возражали против того, чтобы «буржуи и контрреволюционеры» или «фашисты» немного посидели в советских лагерях.
Положение иностранцев в ГУЛАГе было двойственным. С одной стороны, части из них, далекой от политики, пришлось приспосабливаться к чудовищной и абсурдной реальности. С другой стороны, те же западные коммунисты, приехавшие по своему желанию в СССР и попавшие в лагеря, хотя бы видели другую жизнь. Они понимали, что советское государство устроено как-то не так, и, вернувшись домой, поголовно становились антикоммунистами. Для них это был случайный, но временный кошмар. Американцы Нобл или Сговио мечтали выйти и вернуться в Америку. Да, у них украли часть жизни, но это можно компенсировать хотя бы написанием книги — она принесет деньги и моральное удовлетворение. Еврей Марголис мог перед отбоем представлять, как едет в Палестину, где каждый день солнце, вдоволь еды, нет лагерей, и СССР можно забыть, как страшный сон.
А о чем мог мечтать русский крестьянин Иванов? О том, как отсидев 10-15 лет в нечеловеческих условиях вернется домой, в родной колхоз? Жена развелась с ним, как с врагом народа, родственники умерли. Чем он мог утешить себя, работой за трудодни? Нельзя было даже пожаловаться окружающим на жестокую несправедливость судьбы — это клевета на социалистический строй, билет обратно в родной лагерь. Хорошо если он с самого начала был разочарован в советской власти и в лагере пытался просто выжить. А ведь попадались и люди, которые и в лагерях оставались пламенными коммунистами, думая, что произошла какая-то ошибка или недоразумение, и что если работать хорошо, их заметят, оценят и отпустят на волю. Такие «стахановцы» сгорали за несколько месяцев. Весь ужас положения советских заключенных смог оценить Марголин. Он не знал советских нравов, не был коммунистом, не понимал советской действительности и по совести должен был быть обижен на весь мир за такую несправедливость. Но находясь в лагере, он неожиданно понял, как сильно ему повезло:
«Вам дали детские сроки, — говорили русские заключенные, — три и пять лет — это пустяк. Нам по 10 дают. А уж раз дали — не сомневайтесь! Придется вам отсидеть полный срок — „от звонка до звонка“. Выбросьте из головы вашу Варшаву. Не видать вам Варшавы больше, как ушей своих». Нас оттолкнуло открытое злорадство русских лагерников и десятников по поводу наших приговоров. Эти люди не скрывали своего удовольствия и с садистическим наслаждением повторяли нам сто раз на день, что не видать нам Польши, как своих ушей. В первое время нам казалось, что все они — ненормальны, что несчастье вытравило из них способность сочувствовать чужому горю и превратило их в существа полные сатанинской злости и порочности. Прошли месяцы, пока мы научились распознавать среди них друзей и хороших людей. И еще больше времени, пока мы — или те из нас, кто задумывался над окружающим — поняли всю глубину их несчастья, беспримерного в мировой истории.